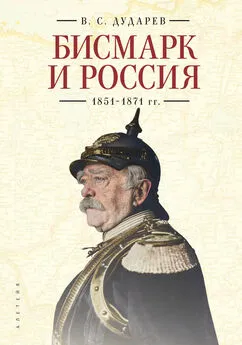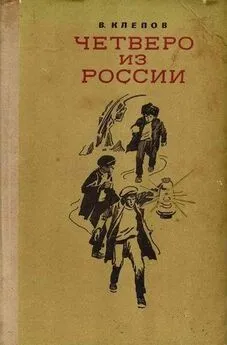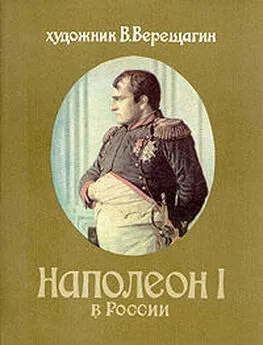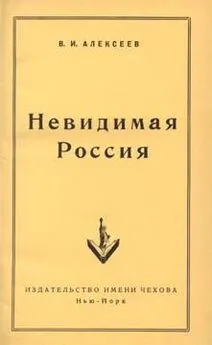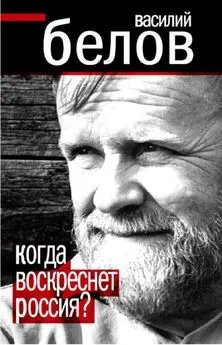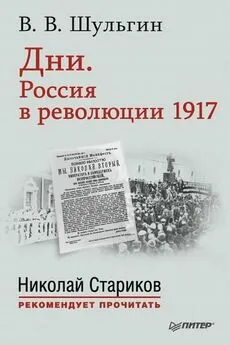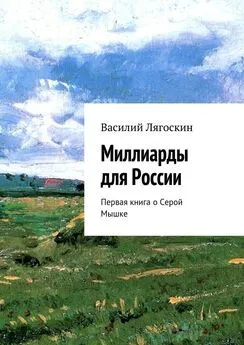Василий Дударев - Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг.
- Название:Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2021
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00165-221-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Дударев - Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг. краткое содержание
Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В этой связи «Санкт-Петербургские ведомости» обращали внимание на очень важный факт, оказавший ключевую роль в войне: «Рассчитывая, что южная Германия не пойдет воевать заодно с Пруссией, оно (французское правительство – В. Д.) надеялось иметь дело с одним только Северогерманским союзом <���…> дело шло о нравственном и стратегическом раздвоении Германии, как необходимом условии для того, чтобы склонить успех войны на сторону Франции. Но именно этого условия и не оказалось» [1971].
19 июля Франция передала через своего поверенного в делах в Берлине документ об объявлении войны [1972], о чем Бисмарк немедленно сообщил в своем циркуляре дипломатическим представителям Северогерманского союза. Он специально обратил внимание на то, что это было первым официальным документом французского императорского правительства, который получил Берлин за «14 дней событий, приковавших к себе весь мир» [1973].
В этот же день король Вильгельм I выступил с тронной речью перед депутатами Северогерманского рейхстага, заявив в конце, что «с глубокой верой мы обращаемся, поддержанные единодушной волей германских правительств Юга и Севера, к патриотизму и самоотверженности германского народа с призывом к защите своей чести и независимости» [1974]. Северогерманский рейхстаг восторженно рукоплескал взявшему после Вильгельма I короткое слово Бисмарку [1975]. Представлявший Ганновер депутат от Национал-либеральной партии Иоганн фон Микель подготовил специальное прошение Северогерманского рейхстага на имя Вильгельма I [1976]. Примечательно, что оно было адресовано Вильгельму I как прусскому королю, а не федеральному президенту, что сильнее подчеркивало консолидирующую роль Пруссии и Вильгельма I в эти судьбоносные для Германии дни. В документе говорилось, что выбиравшая путь мира и дружбы между народами Германия в сложившихся обстоятельствах оказалась вынужденной вести освободительную войну за свое мирное развитие, и вновь, как и в начале XIX в., против французского императора Наполеона. Возлагая надежду на Бога, Германия надеялась на справедливость Вильгельма I, мудрость и силу его государственных деятелей и победу. В этом патетическом документе были две важные детали: прежде всего, это употребление дефиниции «германский народ», и, кроме того, – его социогеографическое пространство: «От морских берегов до подножия Альп». Таким образом, авторы и подписанты этого прошения высказывались уже не за свои отдельные земли в составе Королевства Пруссия или Северогерманского союза, а за всю Германию. Это был патетический вход на опережение в идеологическое пространство Южной Германии.
На следующий день, 20 июля, Микель в своем выступлении торжественно заявил, что прошение было подписано представителями «практически всех фракций нашего собрания», что еще раз подчеркивало «царящее в народе единодушие, демонстрируемое его представителями» [1977]. На четвертом заседании Северогерманского рейхстага 21 июля депутатами был утвержден закон о внеочередном выделении денежных средств. Примечательно, что за принятие этого закона проголосовали даже депутаты, представлявшие пока еще Саксонскую народную партию Август Бебель и Вильгельм Либкнехт [1978]. После короткого выступления Бисмарка на 6 заседании очередная сессия Северогерманского рейхстага была закрыта [1979].
В эти дни Берлин захлестнула волна патриотического подъема и восторженной поддержки политики Вильгельма I [1980]. Вся учащаяся молодежь, как писал «Вестник Европы», даже в тех городах, которые никогда ранее не поддерживали Пруссию, либеральная партия Северогерманского союза, проживавшие за рубежом немецкие республиканцы выступили в едином порыве против начатой Наполеоном III войны на стороне Пруссии, «общенемецкого дела», «немецкого единства» [1981]. Даже либеральная аугсбургская «Allgemeine Zeitung» писала: «Всё сейчас становится второстепенными вопросами, всё исчезло и забыто, осталось лишь одно: истинный долг – вместе идти с Пруссией и каждым германским племенем ради Германии. От этого долга не может уклониться никто, начиная от самого простого бюргера и заканчивая коронованной особой; никто кроме труса или предателя» [1982]. Немецкое население Петербурга также выражало свою поддержку политического курса Берлина [1983].
В своем письме 19 июля министру внутренних дел Ф. А. Ойленбургу [1984]Бисмарк сравнивал начавшуюся войну с Освободительной войной против Наполеона I. Он просил его о восстановлении Ордена Железного креста, учрежденного Фридрихом Вильгельмом III 10 марта 1813 г. за боевые отличия в войне за освобождение Германии от Наполеона, что было удовлетворено Вильгельмом I в этот же день.
Несмотря на героизацию этой войны и национальный подъем что в Германии, что во Франции [1985], справедливыми кажутся слова историка О. Пфланце: «Тысячи погибли на полях сражений Франции по причине осознанных решений, которые были приняты в Берлине и Париже государственными мужами, имевшими возможность решить и по-другому. Эти люди не были марионетками, которые руководили абстрактными и неисчисляемыми войсками, но людьми из плоти и крови, принимавшими решения в полном осознании возможных последствий» [1986].
Благополучное для Северогерманского союза развитие событий продолжали известия из России. Российское общественное мнение стало, в основном, на сторону официального Берлина, хотя «Московские ведомости» на своих страницах были более сдержаны и выбрали профранцузскую сторону [1987]. «Санкт-Петербургские ведомости» в противоположность «шовинистским возгласам наших доморощенных пруссофобов, (которые – В. Д.) останутся гласом вопиющего в пустыне» [1988], возлагали всю ответственность за начало «страшных бедствий» на Францию, равно как и «большая часть европейской прессы» [1989]. С большим гневом редакция столичной газеты обрушивалась на «французский шовинизм, мелочную зависть к чужой славе и чужому могуществу <���…> ложное национальное самолюбие, спокойно сносящее деспотизм внутри, но стремящееся играть роль опекунов и законодателей всей Европы» [1990]. Винил в развязывании войны «действительные хищнические наклонности тюильрийского дворца», «хищничество императора Наполеона» и «Вестник Европы» [1991].
24 июля Петербург официально заявил о своем «строгом нейтралитете» в отношении воюющих держав, «пока случайностями войны не будут затронуты интересы России» [1992]. Несмотря на то, что, по мнению «Московских ведомостей», «при настоящем положении дел для России сохранять нейтралитет значит только не действовать в пользу Пруссии» [1993], «в придворных сферах, начиная от самого Государя и Царской фамилии, – вспоминал Д. А. Милютин, – высказывалось явное сочувствие успехам немецкого оружия» [1994].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: