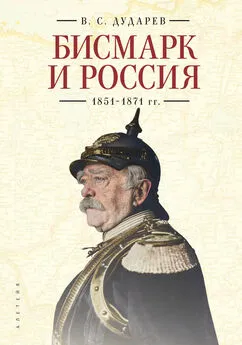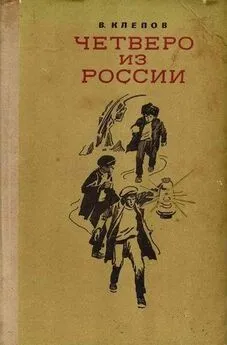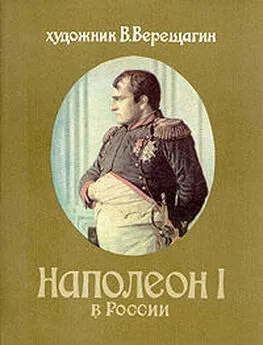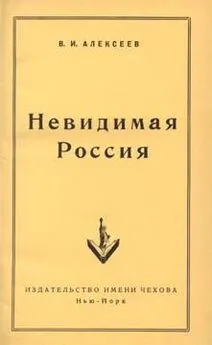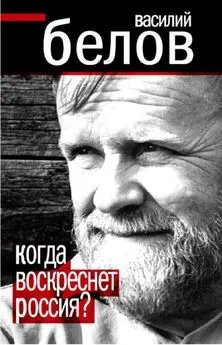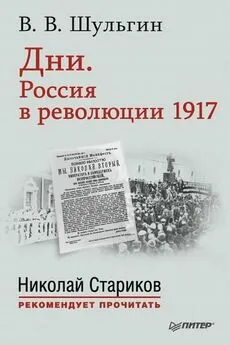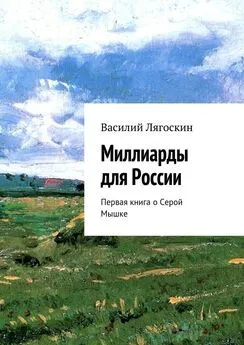Василий Дударев - Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг.
- Название:Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2021
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00165-221-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Дударев - Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг. краткое содержание
Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На первой встрече с Тьером Горчаков говорил о том, что в России он хотя и встретит «живые симпатии к Франции», но заблуждаться по этому поводу ему не следовало, поскольку эти симпатии были порождены «старою общностью интересов, давно забытых». Российский канцлер особенно подчеркнул в разговоре: «В России один владыка – император, он один правит. А император хочет мира, и усилиям Вашим воспротивится не племянник, а государь, обязанный пещись о благе своего народа, и только его одного. Впрочем, он окажет Вам помощь для переговоров, но и не больше». Горчаков повторно обратил внимание Тьера на то, что содействие в переговорах: «Вот все, что можно для Вас сделать» [2114].
В своем донесении 29 сентября [2115]Ройс сообщал Бисмарку, что миссия Тьера в Петербурге провалилась, поскольку он даже не смог добиться от российской стороны формального признания парижского правительства. Горчаков выражал в беседе с Ройсом свое разочарование тем, что Тьер даже не смог предложить ничего существенного для восстановления мира. И хотя в России и сопереживали Франции, Петербург на данном этапе франко-германского противостояния выстраивал свой курс, руководствуясь холодным расчетом [2116]. Такая позиция не могла не радовать официальный Берлин. Однако главная для Бисмарка новость заключалась в долгожданных словах Горчакова, переданных Ройсом в этом же донесении: «Берите Эльзас-Лотарингию и то, что Вы еще хотите взять, если Вы в состоянии переварить это тяжелое кушанье; мы Вам в этом не воспрепятствуем».
Это давало возможность Бисмарку вести себя более уверенно на переговорах с Фавром, на которые Берлин пошел в знак уважения к миротворческой позиции Петербурга [2117]. Интересная информация об этих встречах содержится в письме Бисмарка сыну Герберту [2118].
Канцлер писал о том, что к концу сентября он уже трижды встречался с вице-президентом правительства национальной обороны Фавром и его сопровождающими, но каждый раз, когда разговор затрагивал Эльзас, «у них начинались такие сильные рези живота, что мы должны были прекращать» переговоры. «Они полагали, – продолжал Бисмарк, – что смогут заплатить 500 тысяч миллионов франков, и, кажется, готовы к тому, что мы им оставим Страсбург. Но я сказал им, что о деньгах мы поговорим лишь тогда, когда определится и плотно закроется немецкая граница». В отношении Страсбурга Бисмарк был непреклонен. Страсбург, по словам Фавра, являвшийся ключами от дома Франции, Бисмарк «решительно обозначил как ключи он нашего дома, обладание которыми мы никак не хотели бы передать в чужие руки» [2119].
Эти и другие мысли могли занимать Бисмарка, когда он прогуливался по занятому немцами Версалю. В письме жене Иоганне он сетовал на большое количество поступавших в Версаль донесений, телеграмм, согласно которым «Россия держится любезно, Англия кроме торговли оружием не плохо, Бойст же, как всегда, сомнительно» [2120].
Россия действительно держалась любезно и «сохраняла нейтралитет, который мы публично объявили. Миссия господина Тьера не внесла в него никаких изменений» [2121]. О высокой оценке Бисмарком занятой позиции России свидетельствовало его письмо Швейницу в Вену: «Мы <���…> так обязаны политике императора Александра и его поведению в ходе этого кризиса, что мы не можем оказаться на стороне его противников» [2122]. Под словом «противники» Бисмарк подразумевал Австрию, в которой с конца сентября зрела мысль об укреплении австро-прусского единства [2123]. Как в этом письме Швейницу, так и в другом письме Ройсу [2124]Бисмарк сообщал о том, что «наше желание жить с Австрией в добром согласии основывается на соседских отношениях; вместе с тем мы не должны удовлетворять их за счет наших германских интересов или за счет наших дружественных отношений с Россией».
С другой стороны, царившая в российско-прусских отношениях на высшем уровне идиллия казалась чем-то противоестественным на фоне развернувшейся в это время с новой силой газетной войны между печатными изданиями двух стран. Следует привести несколько особенно ярких примеров, позволяющих проиллюстрировать это. Так, «Московские ведомости», сочувствуя поражению Франции, практически во всех номерах за сентябрь 1870 г. выступали с жесткими антипрусскими высказываниями (что, к слову регулярно критиковалось редакцией «Санкт-Петербургских ведомостей»), нацеленными на обличение последствий роста германского могущества. Обращая на это внимание, «Allgemeine Zeitung» разместила в приложении к номеру от 22 октября [2125]статью, в которой помимо критического взгляда на российскую прессу поместила материал о национальных особенностях русского народа. Признавалось, что «каждый народ, будучи даже неразвитым, сконструировал свои политические идеалы и политические задачи, которые он старается инстинктивно реализовать». Таких у русского народа аугсбургская газета отмечала три: «приобретение Константинополя», «крушение Польши», и политическая задача «недавнего происхождения» – «сопротивление немцам». Отмечалось, что в войне 1870 г. «недоброжелательность и враждебность в отношении захватчика, так необходимого каждому элементу российского общества и государственной жизни, превратились в страх и ненависть. Без сомнения: если однажды тяжесть немецкого оружия упала бы на Россию, русские стали бы почитателями победоносного и более могущественного противника. Им бы стоило почувствовать на себе его объединенную силу; до этого же они будут ненавидеть немецкий народ и представлять эту ненависть отличительной чертой своего патриотического убеждения и национальной независимости». Этим «Allgemeine Zeitung» в частности объясняла политику царской администрации в деле русификации немецкого населения Остзейского края. Ответ «Московских ведомостей», главного печатного противника германской прессы в России, был молниеносным [2126]. Критикуя отдельные положения и общий тон статьи аугсбургской газеты, Катков заканчивал свою передовицу следующими словами: «Та германская сила, которая теперь упивается торжеством побед в Европе и злобствует против дела прогресса и народного возрождения в нашем отечестве, есть ненавистная и темная сила. Это есть временный успех партии реакции, духа исключительности и мракобесия [2127]<���…> В то время как дух реакции и мракобесия празднует в Центральной Европе свои кровавые оргии, дух разумной свободы и прогресса совершает в России великое дело преобразований, и становится силой национальное чувство юного, но могучего народа, которому, несомненно, принадлежит будущее, принадлежит тем вернее, чем темнее была доселе его доля».
Каждое политическое заявление в таких обстоятельствах могло иметь непредсказуемые последствия. Но официальные отношения между Берлином и Петербургом продолжали стабильно демонстрировать ранее достигнутый высокий уровень, периодически подкрепляемый различными дружескими заверениями. Так, 6 октября петербургский «Правительственный вестник» выступил с контрольным заявлением, в котором опровергал появившиеся в Европе слухи о начале военных приготовлений в России, считая их исключительно «газетным вымыслом» [2128]. Об этом же сообщал в Берлин и Ройс [2129]. Бисмарк в своем предписании Кейзерлингу в Константинополь настоятельно рекомендовал «в переговорах с Портой и при общении с коллегами обращать внимание на интимность в наших отношениях с Россией и уверенность в сохранении таковых» [2130], о чем Ройс также проинформировал Горчакова [2131]. Александр II продолжал политику невмешательства в войну между Францией и Германией [2132], что сильнее отдаляло Россию от идеи создания Лиги нейтральных держав. Горчаков теперь так выражал в письме Орлову в Брюссель официальную позицию Петербурга в этом вопросе: «Мы считаем, что взаимопонимание между нейтралами об условиях мира, если бы даже оно было возможно, было бы бесплодным до тех пор, пока сохранится нынешняя военная ситуация» [2133]. В данных обстоятельствах император даже отменил свое запланированное на октябрь путешествие в Крым, поскольку «считал, что не может сейчас позволить себе отойти от дел» [2134].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: