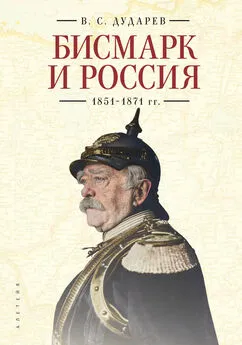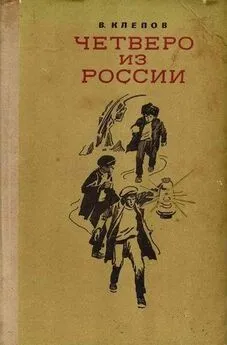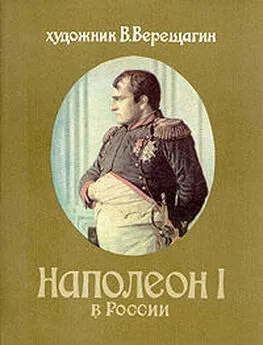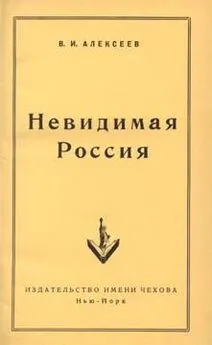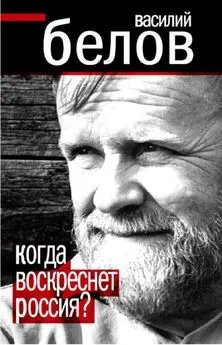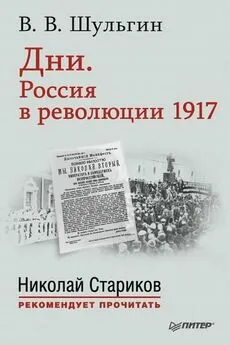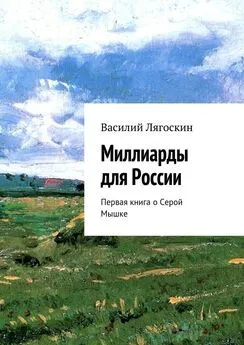Василий Дударев - Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг.
- Название:Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2021
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00165-221-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Дударев - Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг. краткое содержание
Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Доказательство правомочности дальнейших действий Пруссии в отношении Дании Бисмарк привел в предписании 10 февраля 1864 г. Редерну [795]. Он подчеркивал, что Пруссия поддержит единство Датского королевства, «насколько это будет возможным, согласно дальнейшему развитию событий», и надеялся на «успокоение Горчакова», которое он вот уже несколько раз назвал желательным.
После такой яркой преамбулы Бисмарк выразил ключевую мысль для оправдания дальнейшего развития датских событий по прусскому сценарию: «Было бы несправедливым требованием ограничить правопритязания Германии лишь договорами 1850/1852 гг». Бисмарк подчеркивал, что Лондонские протоколы перестали отражать сложившуюся реальность и доказали свою полную несостоятельность в деле сохранения прав немецкого национального элемента в герцогствах [796].
Обозначенный Копенгагеном в ноябрьской конституции 1863 г. курс на окончательное присоединение Шлезвига к датской монархии, нежелание Дании отменить конституцию 18 ноября 1863 г. накануне или уже после вступления в Шлезвиг австро-прусских войск, вооруженное сопротивление датских войск – все это, по мнению Бисмарка, давало право требовать больших компенсаций, нежели восстановление потерявших реальную силу положений Лондонских протоколов. Едва ли это могло стать неожиданностью для Петербурга, где догадывались о возможном изменении с ходом войны целей германских государств [797], и Москвы, где подверглась критике «слепота, с которой копенгагенские политики пренебрегали требованиями германских держав», а надежда Дании на европейскую поддержку напоминала «надежду польских инсургентов на то, что за них поднимется вся Европа» [798].
Бисмарк выражал надежду на то, что Горчаков не будет отрицать изменявшееся вследствие вооруженного сопротивления Дании положение вещей в датском вопросе, а Россия, если и не поддержит открыто, то не станет противодействовать правопритязаниям германских государств в отношении Дании на предстоящей конференции [799]. Любопытна в этой связи заметка, сделанная Александром II на полях письма датского посланника Отто фон Плессена Горчакову. Так, в ответ на изъявление датским королем надежды на то, что российский император придет на помощь Дании, самодержец написал: «Мы уже делали и будем делать все возможное для защиты прав Дании, морально. Что же касается материальной интервенции, то об этом не может быть и речи» [800]. Александр II и не собирался из-за Дании портить отношения с Пруссией.
19 февраля Дж. Расселл выступил с инициативой созыва в Лондоне международной конференции для решения датского вопроса. Французская сторона, раздосадованная тем, что с такой инициативой первыми выступили англичане, все же согласилась на участие в конференции [801]. В Петербурге на фоне опасений о возможном начале общеевропейской войны эта новость была встречена с воодушевлением [802], позже сменившимся волнением из-за того, что различия между воюющими сторонами в видении будущего спорных герцогств может сорвать переговорный процесс, [803]после которого наступило огорчение, когда эти различия привели к фактическому замораживанию подготовки конференции [804].
В сложившихся обстоятельствах Бисмарк придавал большое значение не только «выстраиванию» правильной для Пруссии позиции России, но и настроению самого Горчакова, которое стало заметно ухудшаться с продолжением военных событий в Дании. Российского министра иностранных дел настораживало сокрытие Бисмарком своих истинных планов, несмотря на то, что из Берлина постоянно поступала информация об отсутствии для Пруссии необходимости территориальных приращений [805].
После некоторого затишья в переговорах между великими державами о проведении конференции, инициативу по возобновлению обсуждения этого вопроса взяла на себя Франция. Было принято решение об открытии конференции без предварительных определений ее оснований, поэтому «догадки европейской журналистики (были – В. Д.) направлены преимущественно к тому, с какой программой явится на конференцию каждая из держав» [806].
Осторожное поведение Бисмарка в датском вопросе на данном этапе проявилось в его инструкции уполномоченным Пруссии и Австрии на конференции [807]. Германским дипломатам ставилась задача «ни выдвигать какой-либо определенный базис, ни стремиться к какой-либо обязательно достижимой цели» – Пруссия скрывала свои интересы. Бисмарк создавал видимость бескорыстной политики Пруссии и объяснял дипломатам, что необходимые для решения датского вопроса принципы и положения как раз и должны быть выработаны на конференции в формате свободной дискуссии. Вместе с тем, он подчеркивал, что задача германской делегации заключается в « соблюдении прав и интересов герцогств и Германии» и отклонении трех программ, с которыми могли бы выступить негерманские державы: сохранение «общих договоров 1850 – 52 гг.» (Дания), «чистый принцип интегритета датской монархии» (Англия) и народное волеизъявление (Франция).
В Берлине прекрасно понимали, что на пользу Пруссии и Австрии на переговорах в Лондоне пойдет не только несогласованность позиций великих держав, но более боевые победы союзной армии. Скромные военные успехи в Дании и действия австро-прусских войск ради простого восстановления изложенных в лондонских протоколах прав немцев не принесло бы необходимых результатов на конференции. В войне с датчанами необходимо было добиться такого преимущества, которое дало бы возможность заявить о германских национальных интересах в этом вопросе решительно и бескомпромиссно.
С этой точки зрения генералу Врангелю было чем порадовать Берлин. После принятого в конце зимы на заседании Союзного сейма решения о замещении стоявших в Гольштейне ганноверских и саксонских войск австро-прусскими и вступления 1 февраля 1864 г. союзных войск в Шлезвиг датская оборона в скором времени была фактически прорвана, датчане не оказывали достойного сопротивления. Это повышало военные аппетиты Берлина и Вены. 6 марта Австрия и Пруссия подписали дополнительные статьи к соглашению 16 января об оккупации Шлезвига. В этих статьях утверждалось, что военное сопротивление Данни вынуждало германские государства к активным военным действиям против Дании и даже возможной оккупации Ютландии [808], а Лондонский протокол 1852 г. едва ли мог теперь рассматриваться как основа для мирного урегулирования конфликта [809]. К середине марта действия союзных войск привели к отступлению армии противника к укрепленным позициям под Дюббелем. Другой корпус датской армии вынужден был отойти на север Ютландии в крепость Фредерисия. Несмотря на упорное сопротивление датчан на море, преимущество союзных войск было очевидным [810].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: