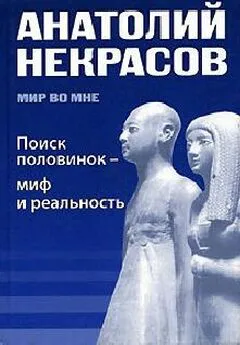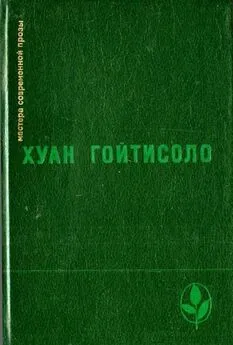Лариса Печатнова - Спарта. Миф и реальность
- Название:Спарта. Миф и реальность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4444-0860-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лариса Печатнова - Спарта. Миф и реальность краткое содержание
В первой части книги в трех очерках прослеживается развитие важнейших институтов Спартанского государства — царской власти, эфората и герусии. Все три института рассматриваются как формообразующая часть спартанской олигархии. Спарта, оказавшись в состоянии перманентной опасности, изобрела особую модель правления, преобразовав традиционную царскую власть, изобретя эфорат и законсервировав совет старейшин. В работе убедительно показывается, что спартанский способ государственного строительства оказался в достаточной мере эффективным, ибо он обеспечил Спарте долговременное стабильное существование.
Спарта. Миф и реальность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Отчасти сходны эти магистратуры и по социальному составу граждан, избираемых на эти должности, хотя, в отличие от Спарты, в Риме существовали для кандидатов в народные трибуны известные сословные ограничения. Что касается Спарты, то эфоры, согласно Аристотелю, избирались из всей массы граждан без каких-либо сословных или имущественных ограничений (Pol. II. 3. 10. 1265 b 39; II. 6. 14. 1270 b 8). Причем способ избрания эфоров был настолько упрощен, что приближался к жеребьевке, а отсутствие имущественного ценза делало эту должность открытой для всех граждан (Pol. II. 6. 16. 1270 b 29).
В Риме народным трибуном мог стать только человек плебейского происхождения, выбранный плебеями из своей собственной среды [129] Народные трибуны избирались сначала в concilia plebis (Liv. VI. 41.5), а с 471 г. — в comitia tribute .
. Для патрициев доступ к этой должности был закрыт. Чтобы обойти закон и стать народным трибуном, некоторые представители патрицианских родов прибегали к единственной для них законной форме — к переходу в сословие плебеев ( transitio ad plebem ) [130] Так, например, патриций Публий Клавдий (Клодий) Пульхр, из политических соображений добивавшийся трибуната, должен был для этого путем усыновления перейти из патрицианского рода в плебейский. Цицерон оспаривает законность усыновления Публия Клодия, которое было совершено в 59 г. до н. э. при содействии Цезаря и Помпея (De dom. 34 sqq., 41; Att II. 9.1 (36); Dc leg. III. 9.21).
. Здесь стоит обратить внимание не только на сходство, но и на принципиальное различие этих двух магистратур. Так, если каждый спартанский гражданин имел право быть избранным в число эфоров, то народный трибунат был открыт только для плебеев. Это базовое различие объясняется прежде всего тем, что в Спарте, в отличие от Рима, гражданский коллектив, по крайней мере de jure , не делился на какие-либо сословные группы. Это отразилось даже в самоназвании спартиатов. Очень рано, уже, вероятно, в период архаики, спартиаты стали называть себя гомеями, т. е. равными (ομοιοι. означает «равные», «подобные») (Xen. Lac. pol. 13. 1 и 7; Arist. Pol. V. 6. 1. 1306 b 30). По крайней мере в эпоху архаики сословие «равных» соответствовало и совпадало со всем гражданством.
Иногда высказываются мнения, что из-за способа комплектования этих магистратур я социального состава их членов эфоры в Спарте и народные трибуны в Риме были самым слабым звеном в политической системе своих государств и постоянно использовались «не по назначению». Особенно характерна эта точка зрения для тех исследователей, которые рассматривают соответственно эфорат и народный трибунат как государственно-правовые аномалии [131] Виктор Эренберг, например, считал эфорат единичным явлением, хотя, по его мнению, именно учреждение эфората сделало спартанскую конституцию полисной, а самое Спарту — полисом ( Ehrenberg V . Sparta. Geschichte. Sp. 1382). В том же духе высказывался и Мартин Хэммонд в отношении народных трибунов. Он полагал, что трибунат — это конституционная аномалия, с начала и до конца остающаяся экстраординарной магистратурой ( Hammond М . The Augustan Principatc in Theory and Practice during the Julio-Claudian Period. New York, 1968. P. 80).
. Эфоры в Спарте и народные трибуны в Риме, по млению этих ученых, лоббировали интересы самых разных политических партий, проявляя при этом подчас абсолютную беспринципность. Отчасти это верно. Известна, по крайней мере для периода поздней классики, высокая степень коррумпированности эфоров, о которой говорит Аристотель. По его словам, «в состав правительства попадают зачастую люди совсем бедные, которых вследствие их необеспеченности легко можно подкупить» (Pol. II. 6. 14. 1270 b 9–11). Поэтому, как думают некоторые исследователи, ни о какой постоянной корпоративной политике эфоров говорил» вообще не приходится. Наоборот, «политика разных коллегий, — по словам Э. Эндрюса, — мота быть противоположной, и отдельные коллегии могли относиться друг к другу отнюдь не дружески» [132] Andrewes A. The Government of Classical Sparta // Ancient Society and Institutions. Studies presented to V. Ehrenberg. Oxford, 1966. P. 8.
. Точно так же отзывается о народном трибунате М. Хэммонд. По его мнению, трибунат был годен для любой политической программы — он был инструментом и в руках демократических реформаторов вроде Гракхов, и в руках аристократических реакционеров наподобие Суллы, и в руках популярных демагогов типа Цезаря [133] Hammond M . The Augustan Principate… P. 80.
. Но то, что в отдельные исторические моменты и эфоры, и народные трибуны подчас становились mancipia nobilium , вовсе не означает, что такова была их внутренняя сущность.
Несмотря на то что аристократия научилась использовать эти магистратуры в своих интересах, тем не менее они оставались в силу своей имманентно антиаристократической сущности препятствием для полного высвобождения правящей элиты от их влияния. Недовольство высших слоев общества постоянно проявлялось в попытках аристократического реванша, направленного или на уничтожение этих магистратур, или хотя бы на ограничение их полномочий. В Спарте борьба царей с эфорами закончилась уничтожением самого этого института во 2-й пол. III в. до н. э., в Риме при Сулле — существенным ограничением власти народных трибунов, когда на основании lex Cornelia de tribunicia poteslate (80 г. до н. э.) они лишились почти всех своих властных полномочий и перестали быть полностью безответственными и безнаказанными (Veil. Pat. 2. 30: imago sine re). Хотя право на интерцессию за ними сохранилось, но теперь за «неуместное вмешательство» они могли быть подвергнуты штрафу. Цицерон, отнюдь не являвшийся сторонником экстремальных действий Суллы, за этот закон, однако, его похвалил. По словам Цицерона, Сулла «отнял у плебейских трибунов власть совершать беззакония, но оставил им власть оказывать помощь» (De leg. III. 9. 22).
Обе магистратуры очень рано были оформлены как неприкосновенные в силу клятвенного постановления. Так, вскоре после учреждения эфората между царями и эфорами была установлена ежемесячная клятва. Эфоры клялись от имени гражданской общины, цари — от своего собственного имени (Xen. Lac. pol. 15. 7). Наличие подобной клятвы между двумя высшими коллегиями — это постоянное напоминание всему обществу о законности обоих институтов и невозможности их существования друг без друга. Это был тандем, мыслимый как неразрывный.
В Риме, согласно традиции, закон о неприкосновенности народных трибунов был принят одновременно с учреждением этой магистратуры в 494 г. (lex sacrata — Liv. II. 33. 2–3; III. 55. 10) и позже неоднократно подтверждался (Liv. III. 55. 6; IV. 6. 7). По-видимому, из декларативного в действующий этот закон превратился только в 449 г., когда были введены суровые санкции за его нарушение («Всякий, кто причинит ущерб народным трибунам… обрекается в жертву Юпитеру, а имущество его распродается в пользу храма Цереры, Либера и Либеры» (Liv. III. 55. 7. Пер. Г.Ч. Гусейнова; см. также: Dion. Hal. VI. 89. 3).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: