Пантелеймон Кулиш - ОТПАДЕНИЕ МАЛОРОССИИ ОТ ПОЛЬШИ (ТОМ 2)
- Название:ОТПАДЕНИЕ МАЛОРОССИИ ОТ ПОЛЬШИ (ТОМ 2)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пантелеймон Кулиш - ОТПАДЕНИЕ МАЛОРОССИИ ОТ ПОЛЬШИ (ТОМ 2) краткое содержание
П. А. Кулиш.
ОТПАДЕНИЕ МАЛОРОССИИ ОТ ПОЛЬШИ (1340—1654) В ТРЕХ ТОМАХ.
ТОМ ВТОРОЙ.
ОТПАДЕНИЕ МАЛОРОССИИ ОТ ПОЛЬШИ (ТОМ 2) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Московскому Государству с Польским Государством заодно быть".
Как бы пи думал и в Москве о письменных сношениях „корунного коснера" с
пограничным офицером по такому важному предмету, но донесение царских людей
было принято, как дело серьезное. На обороте подлинника читаем помету: „156 (1648)
года июня в 13-й день. Государь слушал и бояре. Указал государь послать свою
государеву грамоту в Севск к воеводам: велеть за
т. ц.
23
178
.
рубеж послати нарочно, кого пригожь, и велеть проведать подлинно о всяких вестях
против сее отписки; а проведывать велет тайным обычаемъ".
Трудно вообразить контраст больше того, какой представляли . два соперничавшие
государства. Одно стояло на поблажливосте и снисходительности к преступлениям;
другое—на строгости и грозе. Однакож, в поблажливом государстве люди томились
бессудьом, и сама шляхта, орган законодательной власти, мечтала издавна о переходе
под строгое и грозное правление. Теперь, когда её желания, неведомо для неё,
приближались к исполнению, дух польской государственности высказывался, под
пером Адама Киселя, в такой форме:
„В нашем вольном народе" (писал он к царским боярам в апреле 1648 года) „ни
приказом, ни суровством, ни наказанием, ни смертию, точию разумом, вся лучшее
промышляюще во всем чине поставляются и утверждаются".
Но прославляемая Поляками национальная и общественная людность (слово
прекрасное) до того подрывала основы государственности, что Москаль, якобы
порабощенный царским деспотизмом, с высоты своего превосходства читал следующее
наставление „вольному народу", в лице его пограничного представителя, смоленского
лодвоеводия, который остановил было его в посольстве из-за домогательства взятки от
ехавшего с ним купца.
„Если бы мне купец и брат родной был, и я бы великого государя нашего дел и на
кровного своего, да и всего света на богатство не променял. То всех нас царского
величества подданных повинность, что дел его царских остерегать паче голов своих, а
не токмо что для своей корысти и пожитку государственным делам помешку делать,
как ныне подвоеводье делает для своей корысти и пожитку с таким великим
государственным деломъ".
И действительно, царское посольство, приостановленное смоленским
подвоеводием, долженствовало’разрешить в Москве вопрос: спасать ли Польшу на
краю гибели, или же оставить ее падать в такую яму, какую она рыла некогда под
ногами Москвы?
Между тем по путивльским, Чугуевским и белгородским „сакмамъ", или
сторожевым пунктам, где стояли стрельцы и заставные головы, меняясь одни с другими
„доезжими памятями",—с самого начала бунта Хмельницкого, козацкие забронники,
или, как их называли царские люди, воры Черкасы,и производили грабежи и разбои,
,
179
подкрадывались по-татарски к московским сторожам и к пограничным селам, в
числе пяти, двадцати и до двух сот человек, „нарядным деломъ", то есть в полном
вооружении; побивали сторожевых стрельцов, отнимали станичных лошадей, ружья и
всякую рухлядь. Иногда воры Черкасы появлялись одни, иногда—вместе с Татарами, и
это повторялось так часто, что по реке Северному Донцу и по соседней степи не было
за ними проезда. Даже те козаки, которые сидели пасеками с польской стороны по
речкам Мже, Удам, Комолыпе, стали разбойничать на Донце и под Чугуевым. Воры
Черкасы, по зову Хмельницкого, вооружались на счет единоверных и единоплеменных
пограничников за веру, честь и прочая, как проповедует малорусская историография *).
Все своевольное и беспутное почуяло, что с Низу Днепра веет ветер,
благоприятный для диких инстинктов и привычек. Во всех „корчмах-княгиняхъ", во
всех разгульных „кабакахъ" и „шинкахъ", где от козацкого хмелю валились печи и „за
сажей не видать было Божия свету", как это воспевается в кобзарской думе, у всех
„степных шинкарокъ", этих „Настей кабашныхъ", где козак за свои „воровския" деньги
живился грубыми наслаждениями жизни, на всех базарах и ярмаркахъ—распевали
тогда песни, которых полузаглушенные временем звуки донеслись и до пас:
ОЁ ИЗ Низу Днипра тиихий витер вие-повивае,
Вийсько козацьке запорбзьке у похбд выстуиае.
Тилько Бог святьгй знає,
Що Хмельницький думае-гад&е.,.
В самом деле, мудрено было угадать мысли человека, который, по словам крымских
„полоняниковъ", обещал „служить хану вечным холопствомъ", не предвидя, что у него
будет в руках не хутор с тясмиескими слободами да пасеками, а целое государство.
Испугался ли он своего успеха, боялся ли врезаться глубже в Ко * ролевскую Землю,
чтоб Орда в самом деле не взяла , козачество
*) Еще и в апреле 1649 года царский дворянин Унковский упрекал Хмельницкого, в
Чигирине,— что „Черкасы нападают на порубежных людей, чинят им великия обиды,
грабят и убивают, в угодья въезжают, пчел выдирают, рыбу ловят, хлеб и сено увозят
насильно, и ваши порубежные начальники" (говорил Унковский) „таких воров яе
наказывают и не сыскиваютъ".
180
.
в свое вечное холопство вместе с опустошенною Украиною, или же ему страшно
было поднять на себя шляхту, сгущенную бегством во внутренних областях?...
Неизвестно, почему оп остановился у самого входа в область городских и сельских
промыслов, на Ярославской колонизационной границе, на „Ръси“. Этот его поступок до
того был загадочен, что литовский канцлер приписывал его Божеской силе.
Хмельницкий, вероятно, и сам не знал, что ему делать,—ему, который хотел
помститься над можновладником Конецподьским за обычные в Украине обиды, и,
точно во сне, увидел себя победителем коронных гетманов. Новость и опасность его
положения между Татар и Руси, между бродяг и землевладельцев, между безхатников
Козаков и обладателей вооруженных замков, между православных и папистов, наконец
между Крыма, Москвы и Польши, озадачивала его, надобно думать, так сильно, что он
больше прежнего начал поддаваться козацкой привычке к беспробудному пьянству,
которое привело его к смерти задолго до периода старческой немочи.
Он окружал себя—то странствующими монахами, то колдуньями и ворожеями.
Лишь только занял он Белую Церковь, к нему хлынули чернецы и черницы за
милостынею, теперь, очевидно, не такою скудною, какую получал от жмаиловцев и
тарасовцев голодный киевский митрополит. Но это была монастырская чернь, имевшая
теперь так мало общего с „духовными старшими4*, как мужики с панами. Напротив то
духовенство, которое скиталец Филинович называл Могиляиамщ бежало из Киева
вместе с латинскими ксендзами, униятами, шляхтою, Жидами, Армянами и всем
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
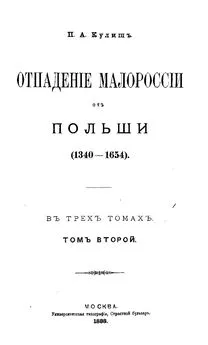
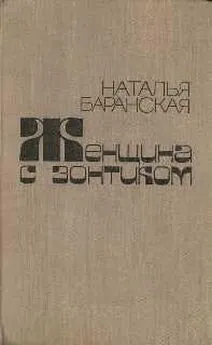
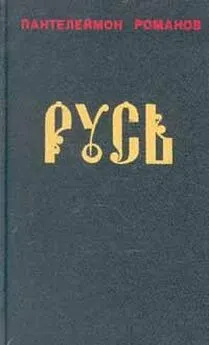
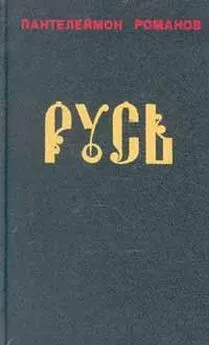




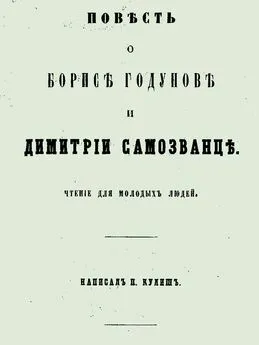
![Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]](/books/1100112/pantelejmon-kulish-istoriya-vossoedineniya-rusi-tom.webp)
