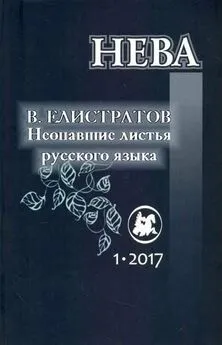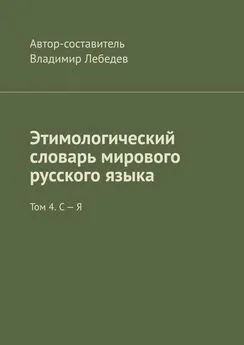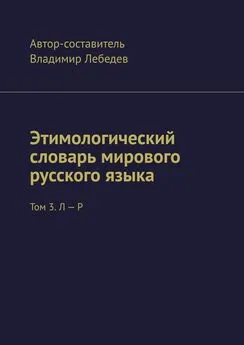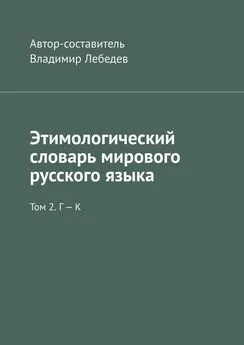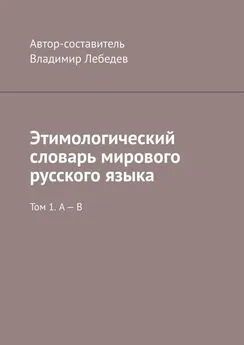Владимир Елистратов - Неопавшие листья русского языка
- Название:Неопавшие листья русского языка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Елистратов - Неопавшие листья русского языка краткое содержание
Кончено, эссе эти выполнены мною в несколько облегченном популяризованном варианте. Не только и не столько для лингвистов, сколько для всех людей, интересующихся судьбой родного языка. Тема-то, согласитесь, более чем серьезная.
Ведь мы говорим о Главных Словах нашего языка. Без которых у нас нет будущего».
Неопавшие листья русского языка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В общем, это понятие обросло массой побочных оттенков смысла, уже никак не связанных с жалостью как с сильным сострадательным чувством.
А между тем раньше этот корень был очень экспрессивным. Пожалуй, единственное современное русское слово, сохранившее его, — это жало (например, змеи). Кстати, в ряде русских говоров жало — это еще и острие (иглы, ножа и т. п.).
Исконно этот древний корень был связан со значением колоть, боль, страдание, мука, смерть.
Жалеть до сих пор во многих языках — это не просто испытывать некое сочувствие, более или менее сильное, чаще — пассивное, не предполагающее никаких конкретных действий. Нет, жалеть значило оплакивать, скорбеть, носить траур, испытывать физическую боль. Жаль («кел») — по-армянски — нарыв.
В русском языке пятьсот лет назад жаль, жалость — это горе, страсть, ревность. Были такие слова желя и жиля, которые означали плач, оплакивание. В старославянском языке жаль — гробница. В русском жаль, жальник — могила, кладбище, жальничный — кладбищенский. Жальбище — опустошенное, разоренное место.
Жалейка — дудка, издающая особые жалостливые звуки.
Как мы видим, жалость должна была изначально жалить , как змея. Жалость , таким образом, должна находиться на грани жизни и смерти. Философы сказали бы, что это глубоко экзистенциальное понятие, в котором сконцентрированы «последние», главные вопросы человеческого существования.
Жалость, говоря шекспировским языком, задает нам вопрос «Быть или не быть?» Испытывать жалость — значит быть. Вернее — Быть. Не знать жалости — значит не быть настоящим человеком, прозябать, влачить бессмысленное существование.
Жалость несет в себе не только идею сострадания, но и идею исконной, настоящей любви. В русских диалектах жаленый, жалкой, жалобочный, жалоба значило возлюбленный, любимый, «зазноба». На Руси так и обращались к любимому или любимой: жалоба ты мой (моя)!
Все-таки жалко, что в современных людях нет больше такой сильной, могучей, напряженной, всепоглощающей жалости , которая была в наших предках.
Или, может быть, она есть, но мы просто не умеем ее выразить?..
ЖЕРТВА
«Жертва» — очень интересное слово. Можно даже сказать: слово странное, мистическое. И очень русское, объясняющее многое в национальном характере.
Древнейший еще общеиндоевропейский смысл этого корня — «взывание», «превозношение», «восхваление» (разумеется, божества).
Превозносить и восхвалять божество, взывать к нему нужно было не только словами молитвы, заклинания, но через принесение ему конкретного дара — жертвы. В узком смысле имеется в виду жертва, которая приносится в дар божеству жрецом в процессе жертвоприношения. Именно это значение обычно и указывается первым в словарях.
Но есть у этого слова и более широкий, обобщающий смысл.
«Жертва» в русском языке — это, по сути, все, что отдается во имя чего-то. Чего-то важного, ради чего вообще-то «стоит отдавать», даже если речь идет о самом человеке, его жизни.
Мало того, «жертва» — это еще и тот, кто пострадал или погиб от чего-либо: от землетрясения, несчастного случая, злого умысла.
Интересно, что во многих других языках (английском, французском, испанском и др.) эти значения «обслуживаются» совершенно другими корнями. Одно дело — «sacrifice» и совсем другое — «victim».
«Sacrifice» — это, так сказать, «высокая жертва». «Приносить жертву», «ценой больших жертв» и т. п. — это «sacrifice». А «стать жертвой» преступника или выбрать себе «жертву для убиения» — это «victim».
А есть, например, в английском еще и «offering», «donation», «endow». (Кстати, «жертвователь» — это «donor», «жрец» — «priest», а «жертвенник» — «credence»…) У нас тоже есть «дары», «доноры», «подарки», «презенты» и т. п., но это другое.
Русский язык упорно объединяет это большое и пестрое смысловое поле одним корнем. Что ж объединяет обряд древнего жреца, «принесение себя в жертву Родине», «пожертвование денег детскому дому» и «жертву ДТП»? Почему во фразах «я принес себя в жертву идее» и «я стал жертвой землетрясения» мы мыслим себя именно как жертву ?
Да по той же самой причине, по которой, например, святыми на Руси становились и становятся «просто убиенные» (Борис и Глеб, царская семья). Человек пострадал, принял муки, значит, он уже принес себя в жертву чему-то высшему: Богу, Справедливости, Правде. «Просто так», впустую люди на земле не страдают. Отсюда вечная любовь русских ко всем «несчастненьким», о чем так много пишет русская классическая литература. Перечитайте, к примеру, Достоевского: все маленькие, убогие, пьяненькие, как Мармеладов, «униженные и оскорбленные» — все это никакие не «victim», а самые настоящие «sacrifice».
Русский человек всегда и во всем, даже в мелочах, апеллирует к высшим силам. Например, лингвистам хорошо известно, что самые сокровенные, интимные чувства русские выражают обобщенно-лично: «мне взгрустнулось», «мне не верится», «мне не дышится», «мне не естся» и «мне не пьется», «чудится мне» и т. д. Внутренний мир человека напрямую связан с Небом, Вечностью, Бытием, Абсолютом, Богом. И все, что происходит с человеком, происходит не просто так.
Мы все — словно древние жрецы. И каждый миг своей жизни стоим у невидимого жертвенника и совершаем бесконечный обряд жертвоприношения.
Слово «жертва» — очень важное слово. Оно помогает найти в жизни высший смысл.
Конечно, тому, кто его ищет.
ЖИЗНЬ
Корней Иванович Чуковский назвал свою знаменитую книгу о языке «Живой как жизнь». Если рассматривать это название поверхностно, то перед нами простая тавтология. Что-то вроде «красивый как красота» или «умный как ум». Если же вдуматься в него поглубже, то мы увидим: оно очень непростое и в высшей степени оригинальное.
Что же такое «жизнь»?
Во-первых, «жизнь» — это не что иное, как бытие, существование. Формально гамлетовский вопрос «To be or not to be?» вполне можно перевести на русский язык как «Жить или не жить?» или «Существовать или не существовать?»
Мы говорим: «жизнь Вселенной». Философ скажет: «бытие мира» или как-нибудь так: «экзистенция сущего». Можно выразиться и попроще: «существование всего». То есть слово «жизнь» в русском языке — это, проще говоря, «все, которое есть», «реальность». Что такое «провести решение президента в жизнь»? Сделать его реальным, сделать частью бытия.
Во-вторых, «жизнь» — значит органическое, биологическое, физиологическое существование всего живого: человека, растения, животного и всех их вместе. Греческое слово «биология» можно перевести как «жизневедение». В этом значении слово «жизнь» является как бы одушевлением, олицетворением своего первого значения. Если я скажу «жизнь фонарика», то я мыслю «фонарик» как живой, например — как персонаж какой-нибудь сказки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: