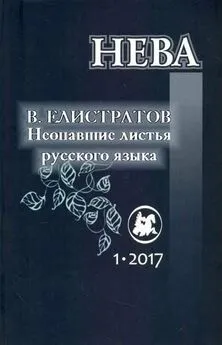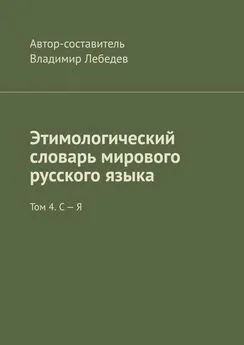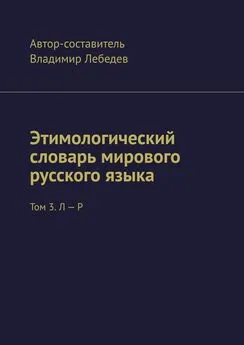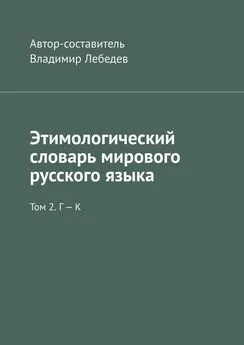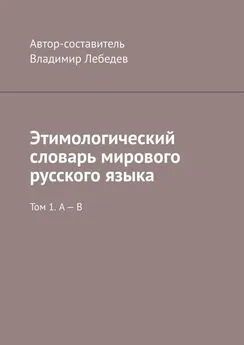Владимир Елистратов - Неопавшие листья русского языка
- Название:Неопавшие листья русского языка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Елистратов - Неопавшие листья русского языка краткое содержание
Кончено, эссе эти выполнены мною в несколько облегченном популяризованном варианте. Не только и не столько для лингвистов, сколько для всех людей, интересующихся судьбой родного языка. Тема-то, согласитесь, более чем серьезная.
Ведь мы говорим о Главных Словах нашего языка. Без которых у нас нет будущего».
Неопавшие листья русского языка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Этому слову, как минимум, тысяча лет. Оно известно с XI века.
Можно сказать, что изначально слово «судьба» было синонимом слова «суд». «Судьба» — это место и процесс суда («судилище»), правосудие и приговор. «На судьбе в результате судьбы свершилась судьба и была вынесена судьба». Примерно так.
Но суд, правосудие и приговор могут быть человеческими (чисто юридическими), а могут — Божьими, не зависящими от воли человека.
Постепенно слово «судьба» из «юридического измерения» стало перемещаться, дрейфовать в высшее, так сказать, в «Небесную канцелярию». «Судьба» стала не просто судом, а Судом Божьим.
А Суд Божий, как известно, вершится постоянно. В результате слово «судьба» постепенно вобрало в себя все возможные значения. Оно стало обозначать и прошлое, и будущее, и человеческую жизнь (и не только жизнь человека: народа, книги, чего угодно…), и отдельно взятое событие в этой жизни.
Мы говорим: «Судьба этого слова очень интересна». Здесь «судьба» может быть заменена «историей». История — это то, что было, свершилось, прошлое, прошедшее.
В учебниках по истории пишут: «Война поставила на карту судьбы народов». Здесь «судьбы» — то, что будет, будущее, условия дальнейшего существования, будущность.
«Моей судьбы не разделить со мной.» — пишет А. С. Пушкин. Здесь «судьба» — жизнь, жизненный путь, участь, доля.
М. Ю. Лермонтов констатирует: «Судьба вчера свела случайно нас». Тут речь идет о стечении обстоятельств, о событии, которое произошло помимо нашей воли, по Воле Божьей, или, говоря иначе, согласно логике таинственного Фатума, Рока.
Можно верить в судьбу (Судьбу) и считать, что все свершается «волею судеб», можно не верить («натура — дура, судьба — индейка, а жизнь — копейка»), можно считать, что человек сам — «хозяин своей судьбы».
Но, так или иначе, язык упрямо создает образ судьбы как некоего главного существа. «Волей судеб», «судьба — индейка» и «хозяин судьбы» — во всех этих выражениях присутствует (явно или «исподволь») фигура одушевления. Судьба обладает волей («волею судеб»), она зооморфна («судьба — индейка»), судьбу как бы «приручают», подчиняют своей воле («хозяин судьбы»); заметьте: это не то же, что «хозяин машины», тут скорее «кто в доме хозяин?».
Можно кого-нибудь «бросить на произвол судьбы». Судьба бывает «злой», «счастливой», «слепой», «суровой». Судьба «приводит» кого-нибудь куда-нибудь.
Судьба может «взлюбить» или, наоборот, «невзлюбить» кого-то. И везде она — таинственное, но словно бы совершенно реальное существо.
«Судьба» — это постоянное напоминание человеку о том, что есть нечто большее, чем его прагматичные расчеты, карьерные планы. Веришь ты в судьбу или нет, в жизни всегда случаются вещи, которые не входят в твои планы и расчеты. «Судьба» — лекарство от самоуверенности, высокомерия, гордыни. Нет, конечно, нужно быть активным, иметь в жизни цель и идти к своей «судьбе-звезде». Но все же.
Наше время можно охарактеризовать как время «прагматической гордыни». Считается, что главное в жизни — удачная карьера, материальный достаток. И к ним надо идти во что бы то ни стало. Слово «амбициозный», которое еще десять-пятнадцать лет назад было отрицательным и считалось синонимом слов «надутый», «чванливый», «зазнавшийся», «спесивый», «напыщенный», теперь многими воспринимается со знаком плюс. Иметь большие амбиции — правильно. Карабкаться по карьерной лестнице — верно. Побеждать конкурентов — очень хорошо.
Но, как говорят в народе, «бил Ерошка Тимошку, да судьба побила Ерошку». Амбиции амбициями, а от «судьбы не уйдешь».
Не согласны?
ТЕЛО и ПЛОТЬ
Слово «тело» — одно из самых этимологически «темных» в русском языке. Кроме того, исторически оно очень многозначно (полисемантично). Оно имело в древнерусском языке такие значения: вещество, материальное существо, изображение, образ, вид, идол, истукан, основа, почва и др.
Вполне возможно (хотя строго этимологически этого доказать практически невозможно), что слово «тело» родственно слову «тень» (как то, что тело отбрасывает) и «дело».
Сближают исследователи языка это слово и с греческим «tel(e)os» — цель, конец, предел, срок. Отсюда — телеология, или финализм, то есть наука о целеполагании и целесообразности всего сущего.
В современном русском языке это слово тоже многозначно. Причем даже нормативные словари расходятся в наборе его значений.
Так или иначе, при всех семантических комбинациях-расхождениях, «тело» — это а) некий материальный объект, занимающий часть пространства, и часть пространства, занятая материальным объектом, то есть и форма, и содержание, б) живой организм в его естественной, природной форме и природная форма живого (или мертвого) организма, то есть опять же — и форма, и содержание, в) основная часть чего-либо (туловище, корпус, основа).
Говоря кратко, тело — это и микрокосм жизни, и жизнь микрокосма, и главная часть микрокосма.
Слово «плоть», если говорить о его светском понимании, фиксируется большинством словарей а) как устаревший синоним слова «тело», б) как составная часть ряда фразеологизмов («во плоти», «войти в плоть и кровь», «плоть от плоти» и др.). Этимология его тоже достаточно «туманная».
Ясно, что оно индоевропейское и что в славянских языках и в ряде других (например, литовском) оно имело значения, близкие к значению слова «кожа».
В богословском дискурсе «плоть» и «тело» в целом противопоставлены «духу», «душе» — как «сосуд греха». Однако все не так просто, и лингвистическая апология тела и плоти занимает в богословии очень важное место.
Слову «плоть», которое долгое время шло в орбите греческого богословского «sarks» (плоть, мясо, отсюда, кстати, — «сарксизм», буквально разрывание мяса), пожалуй, «досталось» греховности больше, чем «телу» («усмирение плоти», «плотские утехи» и т. п.). «Тело» же, хотя частично семантически и «ушло» в терминологию (физическую, астрономическую и др.), тем не менее в ортодоксальном христианском контексте тоже продолжило быть преимущественно «греховно маркированным».
Совершенно понятно, почему начиная с рубежа XIX–XX веков раздавались голоса «в защиту» плоти и тела (например, В. Розанов).
В современном российском обществе бытийный статус этих слов двойственен.
С одной стороны, мы живем в эпоху настоящего разгула так называемого неоязычества, то есть всего «плотского» и «телесного» в их карнавально-порнографическом «изводе».
С другой — «плоть» и «тело» суть неотъемлемая часть семейно-демографической проблемы. Вообще чисто русское пренебрежение к телу-плоти, к этому сосуду духа и души, наплевательское отношение к собственному здоровью и т. д. — одна из ключевых проблем России XXI века.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: