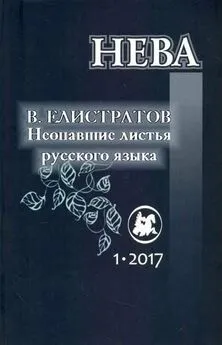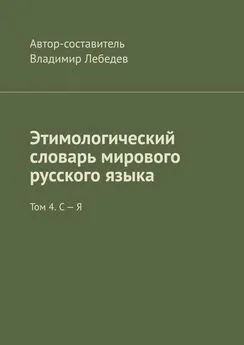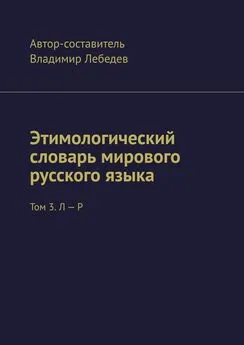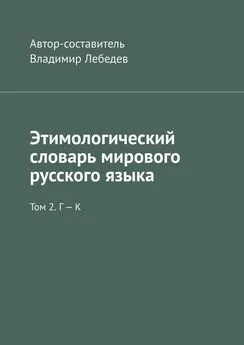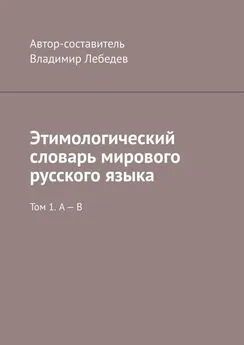Владимир Елистратов - Неопавшие листья русского языка
- Название:Неопавшие листья русского языка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Елистратов - Неопавшие листья русского языка краткое содержание
Кончено, эссе эти выполнены мною в несколько облегченном популяризованном варианте. Не только и не столько для лингвистов, сколько для всех людей, интересующихся судьбой родного языка. Тема-то, согласитесь, более чем серьезная.
Ведь мы говорим о Главных Словах нашего языка. Без которых у нас нет будущего».
Неопавшие листья русского языка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Образ «смешной смерти» распространен в языках и культурах многих народов мира, но, кажется, в русском сознании он играет особую роль.
В русских говорах встречаются такие «милые» слова, как «смертушка», «смердушка», «смертынька», «смерточка». Русские словно бы не боятся смерти: «Двум смертям не бывать, а одной не миновать», «Смерть русскому солдату свой брат» и «Всяк умрет, как смерть придет» и т. п.
Мы говорим: «мертвецки пьян», «спит мертвым сном», «его только за смертью посылать». А как интерпретировать, к примеру, такую дразнилку: «Хитрый Митрий — помер, а глядит»?
И загадки у нас еще те. Например, что такое «живой мертвого бьет, мертвый благим матом орет»? Не отгадали? Колокол.
«Смерть» в русском языке, как известно, не только существительное, оно может играть роль сказуемого и наречия и при этом легко сочетается с самыми разными бытовыми, повседневными смыслами («смерть как есть хочется», «смерть наработался»). У Н. С. Лескова читаем: «Ему самому было смерть смешно». Или у В. Высоцкого: «Ой, Вань, умру от акробатиков…» Не правда ли, причудливое сочетание смеха и смерти.
«Безносая» старуха с косой в русских сказках часто остается в дураках. Она заберет жизни трусливых, глупых (как у В. М. Шукшина: «Смерть губошлепа любит»), а добрые и — значит — сильные побеждают смерть.
Образ смерти в русском языке отчетливо проявляет национальный характер.
С одной стороны, конечно, есть в ней что-то щемяще-трагическое. И поэтому мы поем:
Вот умру я, умру,
Похоронят меня.
И никто не узнает,
Где могилка моя.
А с другой:
И пить будем, и гулять будем,
А смерть придет — помирать будем.
Что это — пустое легкомыслие или глубокая мудрость? Решайте сами.
СМЕХ
Человеческий смех — одно из самых загадочных явлений.
Почему человек смеется? Зачем? Умеют ли смеяться другие живые существа? (Известна, например, такая древняя формулировка: «Человек — это умеющее смеяться животное».) Какова природа смеха? Смех — это в конечном счете «хорошо» или «плохо» («греховно»)? Какие бывают виды смеха?
О смехе и о так называемой смеховой культуре писали известнейшие ученые-физиологи, психологи, философы, лингвисты, филологи, культурологи. Существуют десятки теорий смеха. Одни видят в нем «физиологическую разрядку», другие — проявление языческо-карнавальной культуры человека… Мнений множество.
Замечены вещи, казалось бы, парадоксальные. Например: когда человек смеется и когда человеку страшно, у него практически одинаковое выражение лица. Получается, что смех и страх — две стороны одной медали. Популярна даже такая философская тема: смех и смерть. Смех — словно бы компенсация страха смерти.
Философия, физиология, психология, культурология — это, конечно, очень хорошо. Но все же очень важно лингвистическое исследование этого слова в разных языках, в том числе и русском.
Этому индоевропейскому корню несколько тысяч лет. «Mei» — значит «смеяться», «улыбаться». Возможно, этот корень был связан и с другими смыслами: «цвести», «мерить» и даже «охотиться». В славянских языках слово «смех» (и это символическое совпадение!) оформилось по той же модели, что и слово «грех». И теперь они и их производные обильно рифмуются: «и смех и грех», «что грешно, то и смешно», «смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно» и т. п.
Понятно, что в христианскую эпоху смех рассматривался как наследие «языческих игрищ». Есть такое греческое слово «агеласт». Так называется человек, не умеющий смеяться. Была в Древней Греции скала Агеласт, около которой, согласно мифу, Деметра оплакивала Персефону. Так вот некоторые богословы даже утверждают, что Иисус был агеластом.
Так или иначе, смех часто ассоциировался с грехом, с чем-то низким, даже животным. Не случайно грубо-просторечный синоним слова «смеяться» — «ржать» (как лошадь).
Наверное, впадать в полную агеластию не следует. Но совершенно очевидно, что наш язык всячески предупреждает нас: «смех» — очень тонкая материя. Он как двуликий Янус, как оборотень: может быть добрым и злым, чистым и грязным, честным и подлым.
Мы говорим: «насмешник», «насмешка», «насмехаться», «насмешничать» — и чувствуем, даже не справляясь в словаре, что в этих словах заключается некая отрицательная оценка. «Насмешка» — это где-то рядом с «издевкой».
Десятки фразеологизмов, пословиц и поговорок содержат в себе предупреждение, что смеяться, конечно, надо, но в меру, вовремя: «Бога не гневи, а черта не смеши», «Смех без причины — признак дурачины», «Хорошо смеется тот, кто смеется последним» и т. п. Можно смеяться «до слез», «лопнуть со смеху» и даже «помирать со смеху». Вроде бы — гиперболы, и только. Но фигуры речи случайными не бывают. Про них можно сказать так же, как В. Маяковский сказал про звезды: «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно».
Все эти «предупреждения» языка особенно актуальны в наше время, в информационную эпоху. СМИ, Интернет предлагают нам колоссальное количество «смеховых опций». Смех предлагается нам в юмористических передачах, в блогах, во всевозможных развлекательных шоу, в сериалах. Создается впечатление, что почти все информационное пространство смеется, острит, хихикает, «подкалывает», «прикалывается», навязывая нам всяческую «ржачку». И этот смех, мягко говоря, далеко не всегда качественный. Наш язык очень быстро отреагировал на него фразеологизмом «Юмор (смех) ниже пояса». Опять же, как говорили еще 200 лет назад: «Что грешно, то и смешно» (ср. известный афоризм Д. Мережковского «Что пошло, то и пошло»).
В этой атмосфере тотальной «грешной смеховой пошлости» очень важно сохранить себя, не опошлиться самому, не потерять чувство вкуса и меры. Смех — величайшее достояние языка и культуры, важнейшая составляющая языковой личности. Смех, если это настоящий, умный, добрый, тонкий смех, — это «пир языка», «праздник смыслов». Примерно такой, каким показал нам его поэт Велимир Хлебников:
О рассмейтесь, смехачи…
СТЫД
Стыд — это одновременно и сам факт позора, бесчестия, и то чувство сильного смущения, которое испытывает сам совершивший нечто «постыдное». Но важно (и это обычно не отмечается в толковых словарях), что стыд — это еще и сопереживание другому («мне стыдно за тебя»), чего нет, например, в английском «shame».
Можно сказать, что «стыд» — это проявление совести, «столкновение» совести с бессовестным, Добра со Злом («ни стыда, ни совести»; ср., кстати, пародийное «ни стыда, ни Родины»), Жизни со Смертью.
Стыд — пограничное состояние, чисто русское, «достоевское». Ясно, что настоящему человеку должно быть стыдно за все Зло на земле, равно как и за самый малейший собственный недостаток, недостойную мысль и т. д.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: