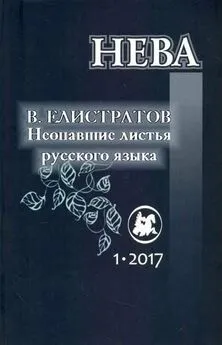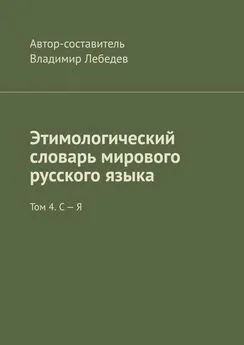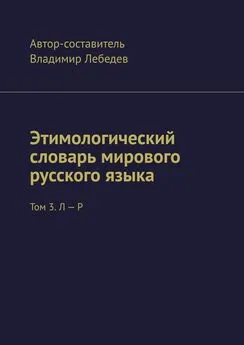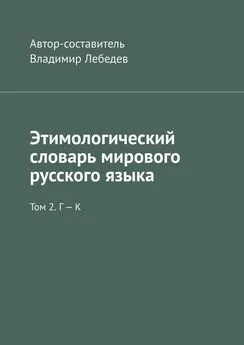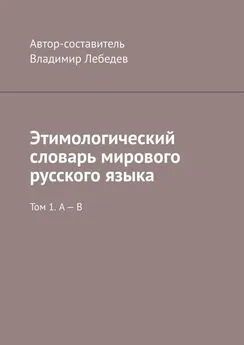Владимир Елистратов - Неопавшие листья русского языка
- Название:Неопавшие листья русского языка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Елистратов - Неопавшие листья русского языка краткое содержание
Кончено, эссе эти выполнены мною в несколько облегченном популяризованном варианте. Не только и не столько для лингвистов, сколько для всех людей, интересующихся судьбой родного языка. Тема-то, согласитесь, более чем серьезная.
Ведь мы говорим о Главных Словах нашего языка. Без которых у нас нет будущего».
Неопавшие листья русского языка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вторая сторона этой проблемы — русское пренебрежение к семье, родству, «крови», кровным узам, к тому, что «плоть от плоти», «плоть и кровь». Тот же В. В. Розанов был абсолютно прав, обвиняя русских в их плотской и телесной «хлестаковщине».
Слово «тело» и в богословском контексте («Тело и Кровь Христовы»), и в светском («телогрейка», «телодвижение», «телесная немощь») — вполне «рабочий» языковой материал для российского жизнестроительства XXI века.
Фразеологизмы со словом «плоть», а также такие однокоренные слова, как «плотный», «(пере)воплотить», «(пере)воплощение» и т. п., — стержневые слова духовной культуры. Их употребление должно всячески приветствоваться, равно как и (пусть отчасти и ложноэтимологическое) сближение с корнем «плот» («оплот», «плотник» и др.). Это — именно «жизнестроительство», строительство «тела жизни», его формы и содержания.
ТОЛПА
История русского слова «толпа» — классический пример, если так можно выразиться, мутации, перерождения его смысла. «Хорошее» слово как будто бы стало «не очень хорошим», даже — «плохим».
Повезло слову «толпа» или нет в истории языка? Судите сами.
Вообще говоря, изначально этот древний индоевропейский корень выражал идею вместимости, вместительности, объемности, емкости, в целом — пространства, которое потенциально может быть чем-то заполнено. Наши далекие праиндоевропейские и праславянские предки несколько тысяч лет назад могли сказать примерно так: «У этого горшка хорошая толпа» или «Хороший у тебя дом, сосед, большой, толпа — что надо!..»
Тысячу лет назад на Руси под словом «толпа» подразумевалось «собрание людей», «войско», «воинство». То есть осмыслялась эта самая «толпа» как нечто большое, многолюдное, но организованное. И наделенное тем, что сейчас называют позитивной энергией.
Постепенно в значение этого слова стали словно бы вкрадываться отрицательные оттенки. «Толпа» стала пониматься как что-то неорганизованное, тесное, непредсказуемое, часто — агрессивное, опасное. В. Даль в середине XIX века дает такое толкование: «скопище, сборище, сходбище, толкотня». Толпой стали называть стадо скота. «Толпить» — значит «сгонять, теснить в кучу». «Толпище» — «место, где толпятся, и самая толпа; толкучка, толкучий рынок».
В различных русских диалектах есть много вариантов «несимпатичного» исполнения этого корня: «толпыга» — тот, кто лезет, толпится; «толпега» — грубый, неотесанный человек, толстая, неуклюжая, неповоротливая женщина и т. п.
Но это ладно. Понятно: в толпе тесно, и много всяких «толпег» толкаются локтями.
Судя по всему, особую роль в «дискредитации «толпы» сыграли все-таки не крестьяне или мещане, а высшие слои общества.
Дело в том, что история последних примерно трех веков — это история развития индивидуалистического сознания. Рост индивидуализма неизбежно «ударил» по так называемой морали толпы.
Есть «Личность», «Я», «Индивидуальность», «Гений» — а есть «толпа», которая является некой косной материей, «безликой массой людей в ее противопоставлении выдающимся личностям» (С. И. Ожегов), стадо «тварей дрожащих» (Ф. М. Достоевский), «человеческий материал», «быдло» (что, кстати, значит крупный рогатый скот, происходит от слова «быть» и в целом не подразумевает ничего дурного, просто — живое существо…).
А если есть гордый «Гений» и «толпа» и у «Гения» вдруг что-то не складывается, то кто виноват? Ясно: толпа. Помните стихотворение «Поэт и толпа»?
Интересно, что в XIX, а особенно в ХХ веке в обиход активно вошло слово «масса» («массы») как своего рода идеологический термин. Есть «вожди», а есть «массы». «Вожди» ведут массы за собой. «Массы» — это как бы вновь организованная толпа. Потом появляются научная и околонаучная массовая культура (коммуникация, сознание, искусство, информация и проч.).
Слово «толпа» уходит на периферию языкового сознания, все больше становится бытовым. С чем у вас ассоциируется это слово? Наверное, с метро в час пик.
Видите: «толпа» — это сначала пространство, которое может быть заполнено, затем — большое количество людей (без знака минус), далее — толкотня, давка, хаос и грубые «толпеги», потом — агрессивно-косная масса, мешающая самовыразиться «Гению», и, наконец, словно бы процесс пошел вспять — снова: много народу, толкотня.
Может быть, слово «толпа» со временем вернется к своему исходному значению? И тогда мы сможем сказать друг другу как-нибудь так: «Эй, приятель, а у этого гаджета большая память — классная толпа» или «У твоей тачки большая толпа — все поместится».
Может быть, и сможем сказать.
Только давайте то же самое, только без очень-очень надоевших «гаджета» и «тачки». Пусть эти слова употребляет «толпа», а мы выразимся как-нибудь поинтереснее.
ТОСКА
«Тоска» — очень русское слово. Можно сказать, что «тоска» — это словесная эмблема, например, русского так называемого критического реализма. Чехов, Горький, Гончаров и др. классики так или иначе «склоняли и спрягали» «русскую тоску», имея в виду «свинцовые мерзости русской жизни» (М. Горький).
Интересно, что однокоренные слова есть практически во всех славянских языках, но из них это слово все больше и почти везде ушло в разряд устаревших, а русский язык не только не расслабляется с «тоской», но и активно с ним работает («тосковать», «тоскливый», «тощища», «тоскун», «встосковаться», «тоска смертная», «тоска зеленая», «тоска нашла, навалилась» и т. п.).
Дело в том, что «тоска» — в высшей степени амбивалентное слово. Это «слово-кентавр», «слово-Янус». Разберемся.
Индоевропейский корень, давший нам «тоску», «teus», несет в себе общую идею простоты (осушения, опустошения, опорожнения). Отсюда же, кстати, русские слова «тщета» и «тощий».
Тоскливый человек — это человек опустошенный. «Духовно тощий». «Тщетный духом».
Обычно в толковых словарях «тоску» разводят на два основных значения. Первое — душевная тревога, уныние. Второе — это скука (а также что-либо скучное). То есть человек в тоске, с одной стороны, «пуст», но с другой — «тоскует» по (характерное глагольное управление!) полноте. Это — «неудовлетворенная душевная, духовная пустота». Быть душевно-духовно пустым — плохо. Но хотеть быть «душевно заполненным» — хорошо. «Тоска» — это как бы трагедия, но с надеждой.
О «тоске» много писали русские философы. Все по-разному, но отмечая все в один голос именно эту «внутреннюю антитезу» «тоски». Н. Бердяев говорил о тоске по «трансцендентному» и одновременной «неслиянности» с ним. И. Ильин очень точно определял тоску как «томление души», как «недоуменный и беспомощный стон о религиозном опыте» (но не сам этот опыт!). То есть «тоска» — это, в общем-то, состояние большинства современных невоцерковленных россиян. И шире — вообще людей, стремящихся к духовной жизни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: