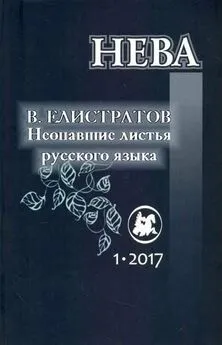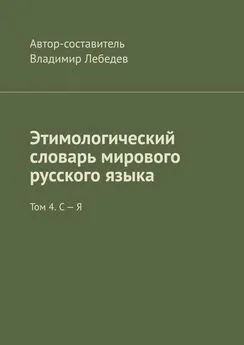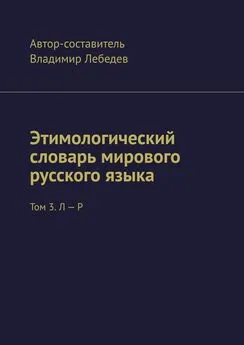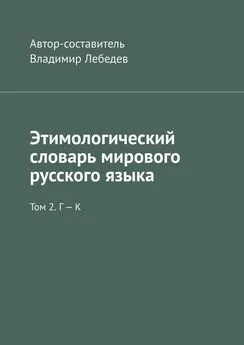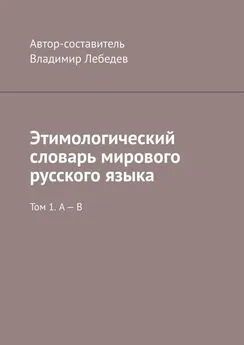Владимир Елистратов - Неопавшие листья русского языка
- Название:Неопавшие листья русского языка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Елистратов - Неопавшие листья русского языка краткое содержание
Кончено, эссе эти выполнены мною в несколько облегченном популяризованном варианте. Не только и не столько для лингвистов, сколько для всех людей, интересующихся судьбой родного языка. Тема-то, согласитесь, более чем серьезная.
Ведь мы говорим о Главных Словах нашего языка. Без которых у нас нет будущего».
Неопавшие листья русского языка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мы сказали в самом начале, что хлеб — слово «культовое». «Культ», «культура» — это слова по происхождению глубоко сельскохозяйственные. Латинский корень «cult» несет в себе идею возделывания земли, «пахоты».
Ясно, что хлеб — главная сельскохозяйственная, опять же, культура и его «культ» совершенно закономерен и оправдан. Отсюда многозначность слова. «Хлеб» — и «пищевой продукт, выпекаемый из муки» (здесь и далее — формулировки из словаря С. Ожегова), и «такой продукт в виде крупного выпеченного изделия», и «плоды, семена злаков, размалываемые в муку», и сами «такие злаки», и «пропитание», и вообще — «средство к существованию, заработок». И зерна, и колосья, и батон-буханка, и в целом — все то, что мы едим, и все то, что мы зарабатываем, чтобы жить.
Хлеб — как расширяющаяся вселенная: от крошечного зернышка, бросаемого в землю землекопом, до обобщенного образа основы всей человеческой жизни.
Хлеб — это «наше все». Не случайно мы так часто говорим «хлебушек», «хлебец», словно задабривая его уменьшительно-ласкательными суффиксами.
В современном городе человек совсем не так трепетно относится к хлебу. Хлеб в городе — уже не центр мироздания. Мы постепенно забываем богатейшую русскую «хлебную фразеологию». Про «заработать на хлеб с маслом» еще помним, а про «много снега — много хлеба» уже не помним. А зря. Потому что, как говорили на Руси, «хлеб на стол, и стол престол, а хлеба ни куска — и стол доска!» И каких бы изысков ни придумывала бурно развивающаяся человеческая цивилизация, все равно, согласно русской пословице, «калач приестся, а хлеб никогда».
ЧЕЛОВЕК
Слово индоевропейское. Этимология спорная.
Мы будем говорить именно о «человеке», а не об индоевропейских «синонимах» этого слова: «антропос», «вир», «мен» и др., где первоначальные смыслы могли быть самыми разнообразными: от «камня», «середины» и «смерти» до «мочить» и «столб».
Согласно самой распространенной лингвистической версии (которой уже около 140 лет), слово «человек» восходит к двум древним формантам.
Первая, отраженная в «чел», имела первичный смысл, который в современном языке может быть передан «биологически» (род, стая, табун, косяк и т. п.) и «социально» (клан, семья, «тейп», общество, общность, масса, толпа, отсюда русское «челядь»).
Вторая («век») тоже «раздваивается» в этимологической ретроспективе. Во-первых, опять же в известной мере «биологически», «век» — это дитя, детеныш, потомок, отпрыск, продолжатель рода, юноша, девушка, сын, а также проявление жизненной силы, энергии (поскольку потомство — это и есть проявление жизненной силы). Этот компонент родствен русскому слову «век» (жизнь человека, эпоха, здесь же — сила, здоровье, победа и т. п.). Во-вторых, «социально»: батрак, работник. Пожалуй, самое древнее славянское этимологически синтезированное значение слова «человек» в целом: отпрыск рода, а значит — член общества, общности, «порождение» и «часть». Симптоматично и наличие формы множественного числа «люди», тоже индоевропейского слова, которое имело исконное значение «народ», «расти», «разрастаться». Хотя фиксируется и значение «находится в услужении, на службе».
Как видим, все разнообразие этимологии может быть сведено к двум доминантам, которые четко отразились в русском языке, условно говоря: со знаком «плюс» и со знаком «минус» (дворовые, слуга, лакей).
Как XX век «поступил» с русским словом «человек»? Он прежде всего в советскую эпоху зачеркнул негативное социальное значение. Хотя в разговорной речи значение «некто, кто может выполнять определенную работу», сохранилось. Но в этом смысле оно является отчасти синонимом слова «профессионал», «кадр» («кадры решают все»), отчасти слову «свой», «нужный».
С другой стороны, так называемый гуманизм на протяжении нескольких столетий всячески затушевывал родовую составляющую семантики слова, одновременно педалируя биологическую. То есть «человек» — это а) особый, высший биологический вид, б) личность, индивидуум со своими правами («Человек — это звучит гордо» и проч.). «Человек» же как отпрыск/часть родовой общности (в том числе и общечеловеческой) и как проявление силы этой общности постепенно уходит на второй план. «Человек» мыслится в гуманистической философии исключительно биолого-социально-космополитически.
Русский язык дает тысячи и тысячи словообразовательных и контекстуальных исполнений слова «человек». Здесь есть и обширнейшая идиоматика («Человек человеку друг, товарищ и брат»), и ложная этимологизация («чело века»), и многое другое. Все эти «изводы» слова рассмотреть невозможно. На наш взгляд, очень показательны, как минимум, три словосочетания, отражающие здоровый консерватизм русского языка. Это: «человек Божий» (+ «божий люд»), «род человеческий» (+ «род людской») и «русский человек» (+ «русские люди»).
Первое словосочетание, с точки зрения, например, английского языка («God’s human»), является неким избыточным абсурдом, семантической тавтологией и оксюмороном. Русский же язык переносит социальную вертикаль («челядь», «крепостной» и т. п.) на космическую, выстраивая прямую связь между Богом и человеком (каждым, отдельно взятым!), причем вектор этот и тот, кто зависит от Бога, служит ему.
«Род человеческий» в том же английском звучит как «human race», то есть подчеркивается биологическая, расовая, а значит — «разъединяющая» составляющая. «Human race» — это раса людей, а не других животных. «Race» — это еще и народ (то есть народ = раса). «Род человеческий» — это объединяющее, синтезирующее словосочетание: «все мы рождены людьми и потому едины», «мы дети человечества».
«Русский человек» на английский может быть переведен либо как «Russian» (без «человека»), либо с гендерно-биологическим «аппендиксом» («Russian man», «Russian woman»).
Слово «человек» в русском языке, на наш взгляд, упорно «консервирует» исконные этимоны, давая их многомерное, если угодно, «соборное» исполнение, уходя от плоскостного, одномерного бытования.
Заметим, что чисто биологическая и чисто социальная (вненациональная, внеродовая) семы как бы упорно отталкиваются русским языком. Противопоставление человека «остальному» животному миру в русском языке (если не брать биологическую терминологию) нерелевантно. Русское слово «человек» упрямо снимает и гендерную оппозицию. Оно же успешно изживает «батрака», «крепостного» и т. п. «Права человека» как социально-юридическая зона неких глобалистско-космополитических деклараций в реальной, повседневной жизни превращается в «права потребителей», «права матери и ребенка» и т. п. Слово «человек» словно бы «ускользает» из социальной (юридической, финансовой, экономической) зон, то есть зон полностью и безоговорочно десакрализованных.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: