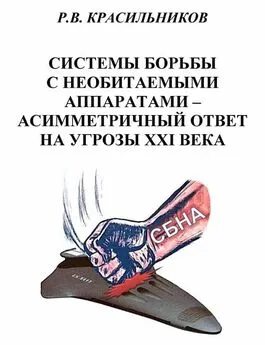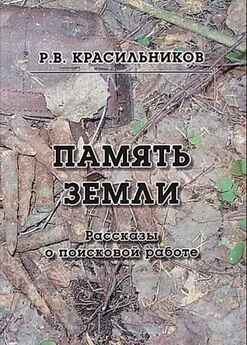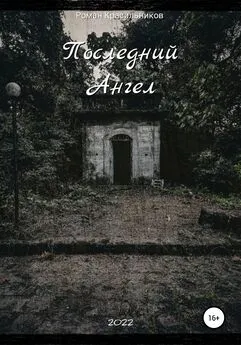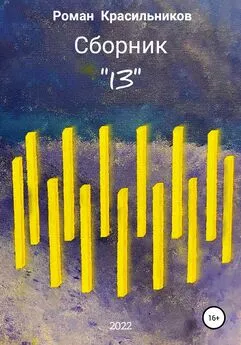Роман Красильников - Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию]
- Название:Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Знак
- Год:2015
- Город:М.
- ISBN:978-5-94457-225-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роман Красильников - Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию] краткое содержание
Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Не ясна концовка и в других символико-фантастических текстах: в «Маленьком человеке» Саранин, уменьшаясь от волшебного эликсира, «кончился» [Сологуб 2000, I: 631]; в «Белой собаке» мужики стреляют в собаку, которая «прокинулась голою женщиною и, обливаясь кровью, бросилась бежать, визжа, вопя и воя» [Там же, II: 383]; главная героиня «Снегурочки» «оседает белым снежным комочком» [Там же, III: 541].
Можно ли сказать, что фабула или сюжет (о котором в данном случае следует говорить с большой осторожностью) заканчиваются вне текста , после его границы? С одной стороны, и автор, и реципиент ограничены рамками произведения, и то, что домысливается сверх него, уже не является авторским, аутентичным. С другой – открытый финал входит в коммуникативный замысел писателя: он «заставляет» читателя самостоятельно продолжить и завершить повествование. Возможно, в данном случае корректнее предположить, что реципиент способен домыслить фабулу как последовательность событий, но не сюжет как уникальное авторское наполнение этих событий образами и смыслами.
По-видимому, необходимо говорить о «мере завершенности» (или «мере открытости») фабулы и сюжета произведения. Эта мера не всегда зависит от введения дополнительных отрезков текста после мотива, который можно считать финальным. К примеру, в рассказе «К звездам» гибель Сережи констатируется с помощью довольно большого количества предложений:
Рано утром нашли его в сырой траве у забора. Он лежал, широко раскинув руки, с лицом, обращенным к небу. Около его рта, на бледной, словно припухшей от улыбки щеке, темнела струя запекшейся крови. Глаза его были сомкнуты, лицо не по-детски спокойно, он весь был холодный и мертвый [Там же, I: 426].
Но мотив нахождения и наблюдения тела является статическим и не отменяет финальной функции мотива смерти.
В творчестве Ф. Сологуба встречаются еще более сложные тексты. Рассказы «Старый дом» и «Помнишь, не забудешь» с позиций современного литературоведения можно назвать феноменологическими. Фабула в них почти нивелирована, а сюжет основан на движениях внутреннего мира персонажей, живущих воспоминаниями об умерших. Все в этих произведениях, в том числе финальные эпизоды, сконцентрировано вокруг танатологического мотива. Безысходность тоски персонажей, безнадежность их ожиданий, замкнутость в мире воспоминаний, безразличие к внешним факторам создают ощущение завершенности текстов.
Так что же значит «ощущение завершенности» (или «незавершенности»)? Если воспользоваться терминологией теории актуального членения речевого высказывания, то закрытый финал – это случай, когда произведение заканчивается уже известной информацией, когда тема-рематическое движение завершается темой ; открытый финал – это случай, когда произведение заканчивается новой информацией, когда последняя рема не становится темой [65] О мотиве как тема-рематической структуре см. [Тюпа 1996а: 8; Силантьев 2004: 66–67].
. У Ф. Сологуба есть еще один рассказ – «Путь в Еммаус», который очень похож на «Старый дом». В обоих произведениях главные действующие лица сконцентрированы на воспоминаниях о казненном близком человеке. Однако героини «Старого дома» не выходят из состояния точки, а Нина из «Пути в Еммаус» в канун Пасхи переживает преображение, прощая палачей и ощущая присутствие жениха. В последнем случае мотив смерти сопрягается с мотивом духовного преображения , согласно концепции мирового археосюжета В. Тюпы [Тюпа 20016: 33].
Мотив преображения завершает и другие рассказы Ф. Сологуба: «Очарование печали», «Опечаленная невеста», «Сними траур», «Надежда воскресения». Важную роль в этих произведениях играют религиозные и мифологические мотивы, имеющие «антитанатологическое» значение: Ариана несет в мир «очарование печали»; Нина Бессонова решает продолжить дело убившего себя Сергея; «светозарный» сын уговаривает мать не носить траур; Ирина верит в воскресение после троекратного явления погибшего жениха. Христианские мотивы характерны для «пасхальной» прозы Ф. Сологуба, в том числе для уже упоминавшегося рассказа «Сон утешающий», где предсмертное знание Сережи освещается предчувствием грядущего воскресения.
Другой «антитанатологической» концовкой является финальный мотив несостоявшейся смерти. Здесь также важную роль играют христианские мотивы: в «рождественском» рассказе «Красногубая гостья» дивный Отрок прогоняет коварную Лилит, не позволяя той совершить последний, умертвляющий поцелуй; в произведении «Путь в Дамаск» Клавдия Андреевна спасает студента от самоубийства, и это событие имплицитно сопоставляется с духовным прозрением апостола Павла; в тексте «Сердце сердцу» тяжело раненный Сергей выживает благодаря молитвам Веры. «Антитанатологическая» интенция появляется в творчестве «смертерадостного» Ф. Сологуба примерно с 1908–1909 гг. и, что примечательно, свойственна его «военной» прозе («Танин Ричард», «Визит», «Незамерзающий мальчик», «Дед и внук», «Свет вечерний»).
Вместе с тем значение завершающих нетанатологических мотивов не всегда позитивно: в рассказе «За рекой Мейрур» победа над зверем не внушает повествователю оптимизм:
А мы в тот день ликовали. Мы не думали о том, как мы будем жить. Мы не думали о том, кто придет на берег реки Мейрур и поработит нас иною и злейшею властью [Сологуб 2000, III: 452].
Не переживает преображение Складнев в «Жене умного человека», произносящий на похоронах жены все те же «разумные» речи. Похороны становятся хронотопом абсурдной ситуации и в тексте «Прятки»: гроб с Лелечкой поскорее уносят от матери, сошедшей с ума. Какой получится жизнь у Кати, не решившейся убить себя и вышедшей замуж за циничного Ронина в произведении «Самый сильный»? Повествователь комментирует отсутствие героизма Ронина на тонущем теплоходе и неспособность Кати протестовать через суицид:
Грубая, жестокая жизнь еще раз торжествовала свою победу над очаровательною мечтою о высоком подвиге [Там же, V: 583].
Также не всегда имеет позитивное значение мотив явления умершего. Если в «Поцелуе нерожденного» и «Надежде воскресения» общение с погибшим дает действующим лицам силы жить и верить, то покойник из «Дамы в узах» занимает тело приглашенного гостя, чтобы истязать свою жену. Для творчества Ф. Сологуба в целом характерно изображение перверсий, сочетание танатологических и эротических мотивов, в том числе в концовках произведений. В рассказах «Милый паж» и «Отрава» графиня и Елена понимают, что беременны, после собственноручного убийства своих любовников [66] Эротические мотивы сочетаются с танатологическими также в «Царице поцелуев» и «Красногубой гостье».
. И это тоже вариант «антитанатологиче ского» финала.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Роман Красильников - Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию]](/books/1069648/roman-krasilnikov-tanatologicheskie-motivy-v-hudozh.webp)