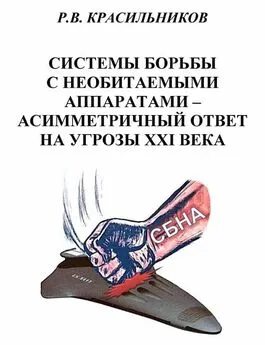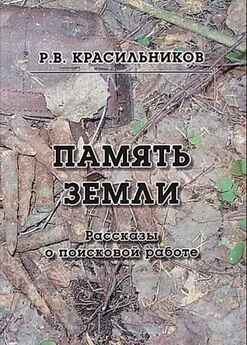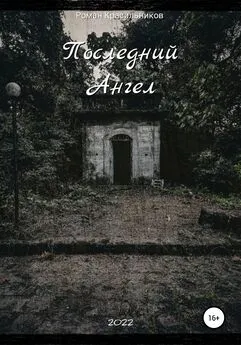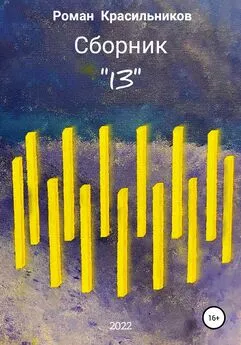Роман Красильников - Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию]
- Название:Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Знак
- Год:2015
- Город:М.
- ISBN:978-5-94457-225-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роман Красильников - Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию] краткое содержание
Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Еще одним дискурсом социокультурного свойства является гендер. Как представление о социокультурных статусах мужчины и женщины, данное понятие касается таких аспектов литературы, как история «мужского» и «женского» авторства, специфика «мужского» и «женского» письма, особенности репрезентации «мужского» и «женского» в художественных текстах, проблема ориентации на определенный пол читателя (см. [Западное литературоведение XX века 2004: 96–97]).
С танатологической точки зрения интересна, но чрезвычайно сложна для исследования гипотеза о различном изображении смерти писателями-мужчинами и писателями-женщинами (см., например, [Bassein 1984]). В частности, наблюдается разница в видах смерти, закрепленных за мужчинами и женщинами в истории цивилизации, к примеру гибель на войне и дома [104] Вспомним у Н. Гумилева: И умру я не на постели При нотариусе и враче, А в какой-нибудь дикой цели, Утонувшей в густом плюще… [Гумилев 1992: 232].
. Более высокий статус мужчины в обществе обусловил более частое изображение его кончины и, соответственно, репрессивное вытеснение мотива смерти женщины, особенно рефлексии по ее поводу, за пределы литературы. Вместе с тем с женским началом в культуре регулярно связывался образ самой смерти [105] К. Гутке на примере различных культур показывает, что смерть представала в облике не только женщины, но и мужчины [Guthke 1999: 1–2]. М. Мокрова обнаруживает подобный образ в рассказе Г. Газданова «Превращение» [Мокрова 2005: 84].
, женщина объявлялась причиной гибели мужчины [106] Вспомним у А. Ахматовой: Прости меня мальчик веселый, Что я принесла тебе смерть [Ахматова 1990,1: 56].
, что по-разному оценивалось в обществе.
Если говорить о различии «мужского» и «женского» письма, то характерная для «феминности» повышенная эмоциональность проявляется и при изображении танатологических мотивов. Речь идет не столько о стойкости восприятия собственной кончины, сколько о реакции на чужое умирание, обусловленной соответствующими психологическими стереотипами (женщина плачет, мужчина сдерживается). В лирике А. Ахматовой и М. Цветаевой мотив смерти постоянно граничит с экзистенциальным ощущением мира и жизни лирических героинь, является характерным компонентом их коммуникации с мужскими адресатами («Уйдешь, я умру…»), создавая особый эффект «надрывности» и «исповедальности». Особенности «женского» чтения учитываются в литературе «для женщин», входящей в состав массовой культуры и отвечающей ее установкам.
Однако, на наш взгляд, гендерные исследования носят пока что гипотетический или политический характер. Невозможно утверждать, является ли повышенная эмоциональность чертой «женского» типа письма или индивидуально-авторского идиостиля [107] Танатологических аспектов индивидуально-авторского идиостиля касаются в своих работах некоторые лингвисты (см. [Чумак 2004; Туктангулова 2007]).
, который также выполняет дискурсивные функции, влияя на создание и восприятие семантики и поэтики литературного произведения [108] М. Фуко, рассматривая критерии авторства у св. Иеронима, видит в фигуре автора дискурсивную функцию, символизирующую «некий постоянный уровень ценности», «некоторое поле концептуальной или теоретической связности», «стилистическое единство», «определенный исторический момент» [Фуко 1996: 26–27].
. В этом свете фигура Л. Толстого ограничивает сферу особых танатологических смыслов и способов репрезентации, отличающихся от элементов такого же рода в творчестве Ф. Достоевского или P. М. Рильке. Так возникают индивидуальные литературные (художественные) танатологии.
В заключение следует отметить, что в этом месте мы переходим от проблем семантики и поэтики к проблемам прагматики. С одной стороны, жанровые, стилевые, национальные, гендерные, индивидуально-авторские художественные парадигмы-дискурсы имеют надтекстовый и интертекстуальный характер, обусловлены историческими и социальными факторами, многие из которых имеют внелитературную природу. С другой – созданное на пересечении этих дискурсов произведение начинает влиять на них, формировать их и легитимизировать их существование. Оно начинает функционировать в реальном мире, вырабатывать к себе отношение общества (читателей, других авторов, цензоров) и даже оказывает воздействие на его жизнь. Наиболее ярким примером реализации прагматики танатологических мотивов, безусловно, является феномен «вертерианства» в европейской культуре Нового времени.
2.7. Резюме
Танатологический мотив как знак можно охарактеризовать с трех сторон: семантической, синтактической (поэтической), прагматической. Вторая глава была посвящена проблемам танатологической семантики и поэтики.
1. Исследование семантики художественного текста опирается на герменевтическую традицию с ее понятиями интерпретации, интроспекции, эмпатии и герменевтического круга. В русле поздней герменевтики мы говорим о приоритете конструирования смыслов реципиентом по отношению к реконструкции, об ограничении герменевтического круга через «предпонимание» исторически обусловленных «предрассудков». Семантический анализ танатологических мотивов традиционно входит в сферу историко-литературных исследований и направлен на определение круга значений указанных элементов в том или ином произведении, в художественном мире того или иного писателя.
Семантика танатологического знака обладает определенной структурой, в которую входят архисема, дифференциальные и коннотативные семы. Она включает в себя не только смыслы, подразумеваемые нарратором (автором, персонажем), но и значения историко-антропологического, религиозного, этнического, общепсихологического и др. происхождения. Пересечение этих сем, смыслов и значений и формирует семантику танатологических мотивов.
Существуют также определенные репрезентативные модели выражения танатологической семантики. Они основаны на прямой или переносной (метафорической и метонимической) номинации. Танатологические мотивы отличаются широким диапазоном переносных номинаций, что связано с общественным табуированием и языковой эвфемизацией данной сферы.
2. Не вся семантика в современных исследованиях считается «прозрачной», очевидной для интерпретации. В рамках психоаналитического, архетипического и мифопоэтического подходов обнаруживаются «латентные» смыслы, «скрытые» за значениями «первого ряда». Они имеют бессознательное (реже – сознательное) происхождение и апеллируют к механизмам человеческой культурной памяти, генетически связанной с комплексами, архетипами и архаическими мифами, трансформируемыми в художественном тексте в мотивы и образы. Примеры анализа данной трансформации, в том числе применительно к танатологическим элементам, можно найти в трудах З. Фрейда, К. Г. Юнга, В. Топорова, Е. Мелетинского и др. Во многих танатологических мотивах и образах обнаруживается психоаналитический, архетипический или мифопоэтический след. Эти приметы позволяют лучше понять некоторые «загадочные» произведения мировой литературы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Роман Красильников - Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию]](/books/1069648/roman-krasilnikov-tanatologicheskie-motivy-v-hudozh.webp)