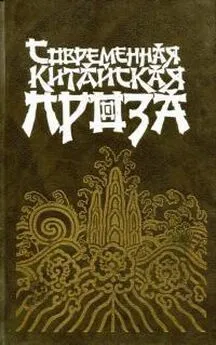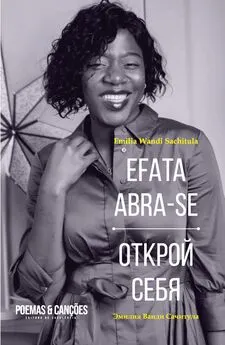Эмили Ван Баскирк - Проза Лидии Гинзбург
- Название:Проза Лидии Гинзбург
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1340-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эмили Ван Баскирк - Проза Лидии Гинзбург краткое содержание
Проза Лидии Гинзбург - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Испытав ощущение, что реальность необратимо раздробилась на фрагменты, Гинзбург обнаружила, что письмо – способ найти логику в окружавшем ее опасном мире или даже от него защититься. Кроме того, она полагала, что в этом отношении выбор у нее невелик. Например, в 1934 году она замечает: «Возможности человека определяются тем, чего он не может, по крайней мере настолько же как и тем, что он может. Писатель – это человек, который не может переживать жизнь не пиша» [1036]. Двойное отрицание здесь существенно: Гинзбург не может не писать, поскольку именно письмо позволяет ей переживать жизнь. Следовательно, письмо неизбежно, но вместе с тем оно – поступок, сопутствующий активной жизни. Писать – значит делать окружающий мир реальным или доступным сознанию (вспомним утверждение Гинзбург, что для нее не было реальным все, не выраженное в слове) [1037].
Вместе с этим она полагала, что личная потребность в письме имела всецело социальную основу. В книге «О психологической прозе» Гинзбург написала о Льве Толстом:
Неопровержимая логикой необходимость отдать свою мысль, свое творчество и труд внеположному миру – свидетельствует об исходном для социального человека переживании общих связей и себя в общей связи. Это переживание человек получает, хочет он того или не хочет, вместе с содержанием своего сознания, общественным, культурным, вместе со своим языком – как носителем общих значений.
Но ниже Гинзбург указывает на парадокс, заложенный в социальном аспекте письма:
Чувство связи не исключало, впрочем, ни психологически противоположных состояний одиночества, изоляции, ни самых жестких и сильных эгоистических побуждений [1038].
Обратим внимание, что писатель может столкнуться не только с одиночеством, но и с «одиночеством (и) изоляцией», у него могут быть не просто эгоистические побуждения, но «самые жесткие и сильные». Подобный пафос в научной работе позднесоветского периода становится очевидным для читателя только ретроспективно: Гинзбург описывала собственный опыт писателя-прозаика. Советская литературная культура с ее цензурой и официальными директивами, временами вступавшая в тайный сговор с злокозненными силами государства, порой создавала впечатление, что социальная основа писательского творчества, которая виделась Гинзбург, – лишь недостижимая мечта.
То, что Гинзбург прекрасно сознавала свое положение и постоянно занималась его теоретическим осмыслением, натолкнуло Александра Жолковского на мысль, что Гинзбург «не оставляет нам возможности метавозвыситься над ее текстом… Единственное, на что можно претендовать, это на роль благодарного ценителя находок, не по-пикассовски прикинувшихся поисками» [1039]. И действительно, в отношении жанра, в котором Гинзбург работала, она была автором и критиком одновременно, оставив в наследство проницательные мысли, которые помогают лучше понять ее собственные эксперименты. И все же исследователям не следует опускать руки с мыслью, будто к тому, что может о себе сказать сама Гинзбург, ничего невозможно добавить. В этой книге я, хотя и беру материал из теорий промежуточной прозы, разработанных самой Гинзбург, стараюсь высветить неожиданные взаимоотношения между ее выбором жанров, ее риторическими стратегиями и ее поисками того, что я называю постиндивидуалистическим человеком.
Эта книга высветила несколько парадоксов, сопутствующих творениям Гинзбург, и теперь мне хотелось бы более подробно коснуться тех парадоксов, которые выше оставались в подтексте. Гинзбург довольно скептически относилась к тезису, что отдельный писатель способен подняться над дискурсами и условиями своей эпохи, – собственно, она только приветствовала эту укорененность в текущем моменте, расценивая ее как признак связи человека с собственной культурой. Вместе с тем она, по-видимому, во многом развивала некую альтернативную этику и метод письма, прочно связанные с традициями интеллигенции и таких литературных гигантов предшествующего столетия, как Толстой и Герцен. Повторим слова Гинзбург: «Писатель испытывал давление своего времени, но он же не мог забыть то, чему люди научились в XIX веке» [1040].
Подход Гинзбург к персонажу, даже когда она стремится преодолеть наследие индивидуализма, в определенном смысле традиционен. На ее взгляд, главная беда натуралистических психологических романов – предположение, что существует «грубая фикция объективности изображаемого. Объективность ощущений, мыслительного процесса, людей, которые садятся и встают со стола. Людей, понимаемых не как построяемая [sic] система, а как вещь» [1041]. Ее недоверие к методам, предпосылкой которых служит что-либо, кроме субъективной реальности, а также ее восприятие людей как «построяемых систем» делают Гинзбург писателем-модернистом. Гинзбург анализирует своих героев, сосредотачиваясь на функциях, механизмах и структурах, деиндивидуализируя операции, типичные как для общественных наук, так и для методов Толстого. Этот герой, измельчавший по сравнению с типичным героем XIX века, – демократичный «обыкновенный человек» в духе Кафки или Хемингуэя.
И все же концепция «новой прозы» Гинзбург предполагала, что в этой прозе должно сохраняться формальное единство личности или характера, что-то наподобие литературного героя. Контуры личности этого героя не размываются. Хотя бы минимальная структурированность личности необходима в свете того, что Гинзбург интересовали ценности; вдобавок эта структурированность имела для нее эстетический смысл. В книге «О литературном герое», критикуя французский «новый роман» ( nouveau roman ) и другие эксперименты ХХ века, Гинзбург пишет, что литературным текстам присущи определенные элементы формы, сколько бы их ни старались низвергнуть. Рассказчик или тот, о ком рассказывается, должны обладать некими «признаками», и признаки эти становятся их «свойствами». Более того, «(м)атерия произведения неизбежно стремится к тому, чтобы сосредоточиться в отдельных узлах, точках» [1042].
Даже если в фрагментарном стиле Гинзбург отражен дух модернизма, в ее усилиях выковать максимально четкие словесные формулировки чувствуется, что на них влияет эстетика прозы Пушкина, который ратовал за «точность», «краткость» и «мысли» [1043]. В 1934 году Гинзбург раскритиковала логическое завершение модернистской или формалистской прозы – причудливые сочетания, которые оказываются пустыми означающими, оторванными от действительности и мыслей. На ее взгляд, идеальный способ – добывать каждое слово из опыта: «…новое познание действительности возможно только <���тогда,> когда каждая словесная формулировка добывается на новом опыте; не как разматывание неудержимого словесного клубка, но как очередное отношение к вещи (этим беспрерывно возобновляемым соизмерением слов и реалий в опыте страшно силен Толстой)» [1044].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



![Лидия Гинзбург - Агентство Пинкертона [Сборник]](/books/594016/lidiya-ginzburg-agentstvo-pinkertona-sbornik.webp)