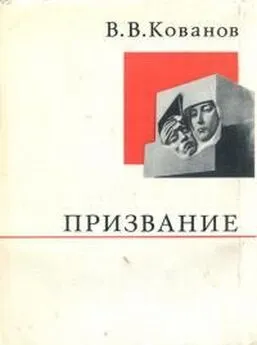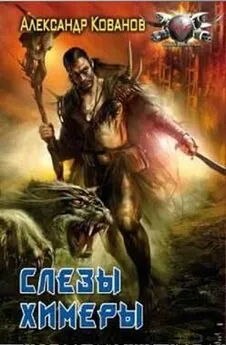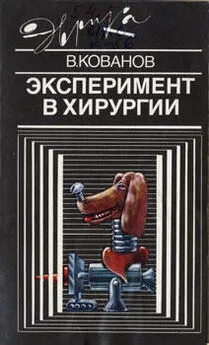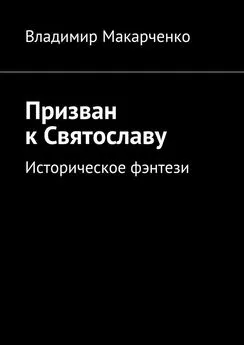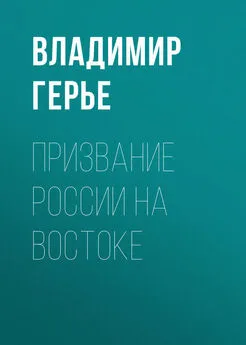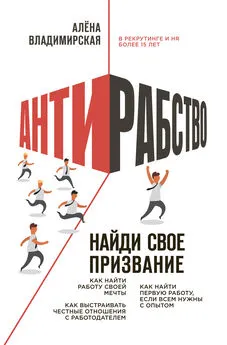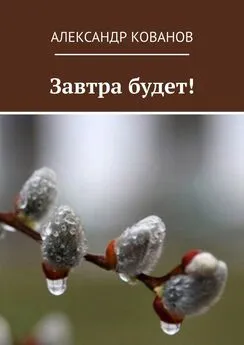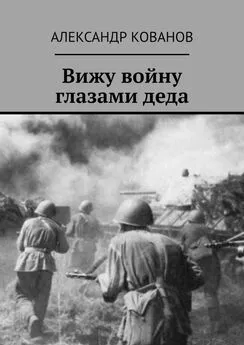Владимир Кованов - Призвание
- Название:Призвание
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Политиздат
- Год:1973
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Кованов - Призвание краткое содержание
Призвание - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Получила и наша семья тогда от комбеда кое-какой инвентарь, телку, жеребца Мальчика. Главным предметом нашего внимания и забот был, конечно, Мальчик. Чистили мы его по два-три раза в день. Ну, а если нам разрешалось проехаться верхом по улице, радости не было границ.
По вечерам вся деревенская детвора собиралась за околицей. Карманы ребят оттягивали телячьи и овечьи козны. Каждый имел их по нескольку десятков, — мы использовали свинец с постамента, на котором когда-то возвышалась поджарая фигура Александра II. От метких ударов увесистой биты разлетались в стороны подложенные под козны не имевшие уже цены деньги — марки с изображением последних самодержцев.
Занятия в школе проходили нерегулярно. Бывало, после одного-двух уроков нас распускали. Кто шел домой, а кто на речку «зыбать». Нас тянул к себе первый зимний лед — чистый, прозрачный, тонкий. Он «шевелился» под ногами, то поднимаясь, то опускаясь. Устоять на нем и называлось «зыбать». Не простое это было дело — нет-нет да кто-нибудь и провалится в ледяную воду. Тогда ребята дружно вытаскивали пострадавшего за шиворот и со всех ног неслись в школу к нашему сторожу деду Ванче сушиться.
Любили мы бывать в каморке деда Ванчи — так все звали старого, одинокого матроса, неизвестно когда появившегося в школе. Усевшись у печки и получив от деда по горячей печеной картофелине, жадно слушали его нескончаемые истории про восстание на броненосце «Потемкин», про дела геройские матросов-односельчан, с которыми вместе по Волге и Каспию плавал, а то и про наше родное село, Ичалки.
— А нонче я про твою мать расскажу, — сказал мне как-то своим хриплым, как бы простуженным басом дед Ванча. — Ты еще тогда совсем малец был… Проходила она, Анна Дмитриевна, мимо дома помещика нашего Урилычева, да не поклонилась барыне, хозяйке-то. Та и велела своему сынку — прапорщику наказать гордячку. Он — на коня, догнал мать (она с ребенком на руках шла) и исхлестал плеткой до полусмерти. Отец твой все правды добивался, жалобу написал в суд, но суд ее и не принял… Долго твоя мать хворала от побоев…
Была у деда Ванчи любимая присказка; «Мы — ичалковские, нас голыми руками не возьмешь». Помолчит, подмигнет хитро, подкрутит свои порыжевшие от самосада усы и начнет вспоминать.
Запомнились его рассказы о крестьянских «беспорядках» в нашем Княгининском уезде в 1905—1906 годах. По соседству с Ичалками было имение тогдашнего одесского градоначальника барона Нейдгардта, жестоко расправившегося с восставшими матросами. Вернувшиеся в село со службы на флоте матросы-черноморцы в отместку за своих товарищей вместе с крестьянами разгромили усадьбу барона.
Разъяренный барон Нейдгардт добился, чтобы среди крестьян села Ичалки было произведено дознание. Однако когда управляющий имением Юдин и полицейские въехали в село, они увидели перед собой толпу крестьян до двухсот человек с кольями, палками и топорами в руках. Ехать дальше полицейские не решились, повернули подводы и под угрожающие крики «Бей их!» погнали лошадей прочь от села. После отъезда полиции кто-то ударил в колокол и, собравшись на площади, крестьяне решили продолжать борьбу.
Вскоре прибыл отряд казаков — чинить суд и расправу. Крестьяне Ичалок пытались оказать сопротивление, но силы были слишком неравны. 15 человек арестовали и бросили в тюрьму, в том числе и вожака — матроса-черноморца Федора Бачаева. Предвидя, что предстоит вынести жестокую порку шомполами, Бачаев пошел на хитрость. Уговорил конвоира зайти в лавку купить ему связку баранок. А потом незаметно положил их за пазуху, обернул вокруг тела. По счастью, баранки оказались такие, что их, как говорится, топором не разрубишь. Когда стали пороть, баранки-то, наверное, и спасли его. Но домой Бачаев уже не вернулся. Как и многих других, его сослали в Сибирь. А против остальных «бунтарей» судебное разбирательство длилось несколько лет…
В Княгининском уезде поджоги барских усадеб, разгром имений случались не раз. Уже много лет спустя попал мне в руки интересный документ, живо напомнивший деда Ванчу и его рассказы… И не могу не процитировать этот документ, так ярко говорит он о настроениях крестьян в ту пору, об истоках революционных настроений, широко охвативших крестьян в предоктябрьские годы.
«Донесение начальника Нижегородского губернатора жандармского управления в департамент полиции о составлении крестьянами с. Большие Кемары приговора о конфискации частновладельческих земель и прекращении войны на Дальнем Востоке.
1905 года, августа 8.
20 минувшего июля крестьяне 2-го общества с. Больших Кемар Княгининского уезда на сельском сходе составили приговор, в котором постановили: добиваться отобрания земли у духовенства и частных землевладельцев с целью поделить ее между крестьянами; об отделении церкви от государства и о прекращении войны на Дальнем Востоке. Составление означенного приговора было результатом подготовительной агитации сына местного сельского писаря — учителя начального училища Дмитрия Андреева Кострова, под руководством которого приговор составлял его отец Андрей Иванов Костров при содействии сельского старосты Сергея Иванова Клыбина… Приговор этот крестьянами отослан в Министерство внутренних дел.
Полковник Левицкий»Такие настроения у нижегородских крестьян были, конечно, не случайны. Крестьянство этих мест имело тесные связи с сормовскими и канавинскими пролетариями, многие из которых были выходцами из окружающих деревень. Сормовские рабочие-агитаторы часто появлялись в деревнях, проводили тайные сходки, разъясняли обстановку, побуждали крестьян к решительным действиям против угнетателей.
Продолжу, однако, рассказ о своем детстве.
Сейчас уже многим просто трудно представить себе, как жила деревня в первые годы после революции, с какого уровня начинался ее путь к колхозам, механизации, зажиточной и культурной жизни.
А было так… С ранней весны до поздней осени и взрослые, и подростки почти все время проводили в поле. Выезжали из дома с восходом солнца, в холщовых штанах и рубахах, босые. Даже лапти мы надевали только с наступлением заморозков. Ехали до своей полосы часа полтора — два. Дрожали от холода так, что зуб на зуб не попадал, но виду не подавали. Если становилось совсем невмоготу, вылезали из повозки и бежали за лошадью, чтобы согреться. Родители во всем относились к нам, как к равным, никаких поблажек и скидок на возраст не делали, даже самому младшему в семье. Работа в поле была изнурительной. Нестерпимо болели спина, руки, ноги после многих часов борьбы с колючим, словно влипшим в землю осотом, липким молочаем, стелющейся березкой. Они забивали тоненькие всходы проса и пшеницы, не давали им расти, а от их жизни зависела и наша.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: