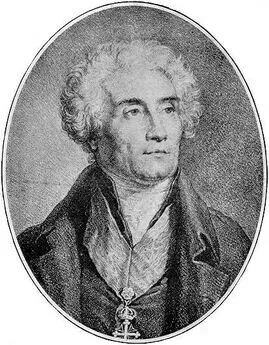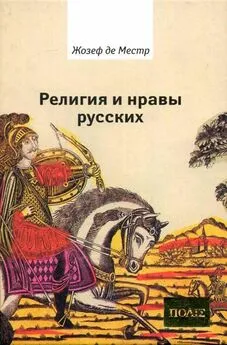Жозеф Местр - Санкт-Петербургские вечера
- Название:Санкт-Петербургские вечера
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Алетейя» (г. СПб)
- Год:1998
- ISBN:5-89329-075-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жозеф Местр - Санкт-Петербургские вечера краткое содержание
Санкт-Петербургские вечера - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вследствие того же заблуждения языки этих дикарей были приняты за языки исконные, между тем они не могут быть ничем иным, кроме как обломками более древних языков, разрушенных (если можно так выразиться) и испорченных, — как и те люди, которые на ннх говорят. В самом деле, всякое вырождение отдельного человека или целого народа тотчас же дает о себе знать строго пропорциональной деградацией языка. 2Да и как бы мог человек лишиться какой-либо идеи или хотя бы верного ее понимания, не утратив при этом слова или точного значения слова, эту идею выражающего? И напротив, как бы мог он начать мыслить больше или лучше, не проявив это тотчас в языке?
Таким образом, существует первородная болезнь — как есть первородный грех, и в силу этой первоначальной порчи мы подвержены всем видам физических страданий в целом, подобно тому как в силу той же причины подвержены мы всем видам греха и порока в целом. У этой первородной болезни нет, следовательно, особого имени. Она представляет собой способность испытывать всякого рода страдания, — как первородный грех есть лишь способность совершать всякого рода преступления. Аналогия, таким образом, выходит полная.
Но ведь существуют и другие болезни, подобно тому как есть первородные прегрешения второго порядка. Иначе говоря, некоторые прегрешения, совершенные определенными лицами, могли повлечь за собою новую, более или менее значительную порчу и передать потомству в той или иной степени как эти пороки, так и болезни. Не исключено, что подобные великие злодеяния более невозможны; тем не менее ясно, что общий принцип остается в силе и что христианская религия доказала свою причастность величайшим тайнам, когда обратила главную свою заботу и всю свою учительную и законодательную власть на то, чтобы упорядочить размножение человека сообразно божественному закону, — дабы воспрепятствовать гибельной передаче пороков и болезней от отцов к детям. И если я рассуждал, не проводя различия между болезнями, которым мы обязаны собственным прегрешениям, и теми, которые достались нам из-за порочности наших отцов, то вина моя невелика, ибо, как я только что сказал, все они поистине лишь наказания за преступление. Только эта наследственность и шокирует поначалу человеческий рассудок, но — пока мы не обсудим все это более подробно — давайте довольствоваться общим правилом, сформулированным мною в самом начале: любое существо, способное к размножению, может произвести на свет лишь подобное себе создание. И здесь, г-н сенатор, обращаюсь я к вашей интеллектуальной совести: если человек совершает известное преступление или целый ряд преступлений, способных исказить в нем моральное начало, то ведь вы ясно понимаете, что порча эта может передаваться по наследству — точно так же, как очевидна для вас наследственность такой порчи, как золотуха или сифилис. Впрочем, мне нет никакой нужды обращаться к наследственным болезням. Если угодно, можете рассматривать все сказанное на этот счет как отступление, остальное же сохраняет всю свою силу. Когда же вы сведете воедино предложенные мною соображения, у вас, надеюсь, не останется сомнений в том, что если страдает невинный, то лишь в качестве человека, и что громадное большинство несчастий падает на преступление, — а этого мне достаточно. Теперь же...
Кавалер. Не будет никакой пользы, по крайней мере, для меня, если вы сейчас пойдете дальше, — ибо стоило вам упомянуть о дикарях, как я уже перестал вас слушать. Несколько брошенных вами мимоходом слов об этой породе людей целиком завладели моим вниманием. Так вот, сумеете ли вы мне доказать, что языки диких — это именно остатки, а не изначальные элементы языков?
Граф. Если бы я хотел взяться за это доказательство всерьез, то сначала попытался бы доказать, что как раз вам, г-н кавалер, следует доказывать обратное, — но я опасаюсь вдаваться в подобную диссертацию: она заведет нас слишком далеко. Но если вам кажется, что важность предмета заслуживает того, чтобы я, по крайней мере, изложил вам свое мнение, то я сделаю это ради ваших будущих размышлений охотно и в подробностях. Итак, вот что я думаю по важнейшим пунктам вопроса, частное следствие которого овладело вашим вниманием.
Сущность всякого духа заключается в познании и любви; пределы его познания суть пределы его природы. Существо бессмертное ничего не познает: по природе
своей оно уже знает все, что ему должно знать. С другой стороны, ни одно разумное существо не способно естественным образом любить зло; для этого Бог должен был сотворить его злым, что невозможно. Следовательно, если человек подвластен неведению и злу, то лишь в силу порчи, не являющейся абсолютно неизбежной, — а она не могла быть ничем иным, кроме как следствием преступления. И эта потребность, эта жажда знания, движущая человеком, есть природное его стремление, возносящее его к исконному состоянию и возвещающее человеку о том, что он есть по своей сути.
Человек, если можно так выразиться, тяготеет к области света и знания. Ни один бобр, ни одна ласточка или пчела не желают знать больше, чем знали их предки. Все существа спокойно занимают отведенное им место. Все они пали, но не ведают о том, — лишь человек это чувствует, и подобное ощущение есть вместе доказательство его величия и нищеты, высоких прав и невероятного вырождения. В том состоянии, до которого он опустился, человек лишен даже печального удовольствия не знать самого себя: ему должно беспрестанно себя созерцать, и он не может делать это, не краснея от стыда. Даже собственное величие смиряет его гордыню, ибо свет познания, возвышающий человека до ангелов, в то же время открывает в нем самом отвратительные склонности, превращающие его в зверя. В глубине своего существа ищет человек хоть какую-то неиспорченную часть — и не может найти: все осквернено грехом, и «весь человек — одна сплошная язва*. 18 18 "Ολος άνθρωπος νοϋσος (Гиппократ. Письмо к Демагету. Inter орр. cit. edit., t. II, р. 925). Это верно во всех отношениях.
Непостижимое соединение двух разнородных и несовместимых сил, уродливый кентавр, — человек чувствует, что сам он есть следствие какого-то неведомого злодеяния, какого-то омерзительного смешения, осквернившего его существо до самых глубин. Всякий дух есть по природе своей результат, вместе тройственный и единый, восприятия, которое схватывает, рассудка, который утверждает, и воли, которая действует. Первые две способности лишь ослаблены в человеке, последняя же — сломлена;' она подобна змее уТассо, (2)которая «ползет за своим хвостом», 19 19 F г а с t a et debil itata. Это слова Цицерона (Ad familiäres, I, 9) (3) , столь точные, что даже отцы Тридентского Собора (4) не нашли лучшего выражения для того, чтобы описать состояние воли, порабощенной грехом: Liberum arbitrium fractum atque debilitatum (Conc. Trid., sess. 6). (5)
20 20 E se dopo se tira (Tasso, XV, 48). <6)
страдая от собственного позорного бессилия. Именно в этой, третьей, способности и чувствует человек смертельную рану. Он не знает, чего хочет; он не хочет того, чего хочет; он хочет того, чего не хочет; он хотел бы хотеть. Он обнаруживает в себе нечто чуждое и более сильное, чем он сам. Мудрец сопротивляется и восклицает: «Кто избавит меня?» 21 21 ш Рим. 7, 24.
Безумец покоряется, зовет свое малодушие счастьем, но и он не может избавиться от другой, неиспорченной в своей основе воли, — и угрызения совести, пронзающие его сердце, вопиют к нему: «Делая то, чего не хочешь, ты соглашаешься с законом». 22 22 ,v Там же, 16.
И кто же поверит, что человек мог выйти из рук Творца в таком виде? Самая эта мысль возмущает настолько, что уже одна философия — я разумею, философия языческая — открыла первородный грех. Не говорил ли старый Тимей из Локр (7)(и наверняка вслед за своим учителем, Пифагором), (8)что «пороки наши происходят не столько от нас самих, сколько от отцов наших и тех стихий, из которых мы состоим»? Не сказал ли Платон, что «следует винить скорее порождающее, нежели порожденное»? И не прибавил ли он в другом месте, что Господь, Бог богов, 23 23 DEUS DEORUM (Исх. 8, 2; Втор. 10, 17; Есф. 14, 12; Пс. 49, 1; Дан. 2, 47; 3, 90).
узрев, как подчиненные размножению существа утратили (или разрушили в самих себе) «бесценный дар, решил подвергнуть их лечению, способному разом и возрождать, и наказывать»? 3И Цицерон нисколько не удалялся от мнений тех философов и посвященных в таинства, которые полагали, что «мы живем в этом мире для того, чтобы искупить некое злодеяние, совершенное в мире ином». Он даже где-то цитирует сравнение Аристотеля, которого созерцание человеческой природы навело на мысль о страшных муках несчастного, привязанного к трупу и обреченного разлагаться вместе с ним. В другом месте он ясно говорит, что «природа обошлась с нами скорее как мачеха, а не как мать, и что божественный дух в нас как бы заглушен полученной от природы склонностью ко всевозможным порокам». 24 24 См. s. Aurelii Augustini Contra Pelagium, üb. IV, (9) а также фрагменты Цицерона, in 4 е , Эльзевир, 1661, с. 1314-1342. 1,1 ......Video meliora, proboque; Détériora sequor. (Ovidii Métamorphosés, lib. VII, v. 17) (ll)
И не замечательно ли, что Овидий (10)описывал человека совершенно в тех же выражениях, что и св. Павел? Эротический поэт сказал: «Вижу благо, люблю его, но зло соблазняет меня», 1,1между тем апостол в изящном переводе Расина (13)говорит:
Интервал:
Закладка: