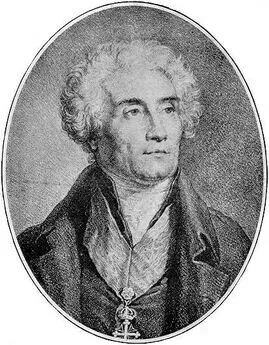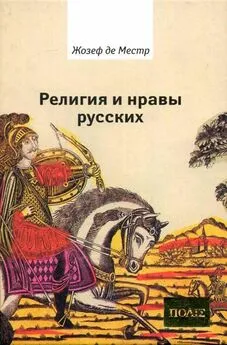Жозеф Местр - Санкт-Петербургские вечера
- Название:Санкт-Петербургские вечера
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Алетейя» (г. СПб)
- Год:1998
- ISBN:5-89329-075-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жозеф Местр - Санкт-Петербургские вечера краткое содержание
Санкт-Петербургские вечера - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
следует относить как раз к защитникам врожденных идей, ибо он был учителем Платона, который позаимствовал у него основные положения своей метафизики. 35
А что касается Аристотеля, то хотя я и не мог тогда представить все необходимые разъяснения, вы не отказали мне в любезности и поверили моим словам, когда я, полагаясь лишь на собственную память (а она меня редко подводит), процитировал фундаментальный принцип греческого философа: «Человек может что-либо познавать лишь опираясь на то, что он уже знает», 36— а это само по себе с необходимостью предполагает нечто очень близкое теории врожденных идей.
А если вы вдобавок рассмотрите, что писал Аристотель — с мощью ума и изящной точностью выражений воистину восхитительными — о сущности духа, которую видит он именно в мышлении, 37то у вас не останется ни малейшего сомнения в грубейшей ошибке тех, кто вознамерился низвести этого философа до уровня Локка или Кондильяка.
Что до схоластов, которых слишком уж принижали в нашу эпоху (что и ввело в обман множество недалеких людей, осмелившихся судить об этой сложной проблеме, ничего в ней не разобрав), то вот вам знаменитая аксиома их школы: Ничто не может войти в разум иначе, как, через чувства 1По недомыслию или по недобросовестности полагали (или говорили), будто эта общеизвестная аксиома исключает врожденные идеи, — что совершенно ложно. Мне известно, г-н сенатор, что фолианты вас не отпугивают, и я хочу вас как-нибудь познакомить с учением св. Фомы об идеях. Тогда вы поймете, до какой степени...
Кавалер. Друзья мои, вы заставляете меня знакомиться с весьма странными особами. Ведь я полагал, что святого Фому цитируют разве что в университетах и порою — в церкви. Но я и помыслить не мог, что и у нас с вами зайдет о нем речь.
Граф. Талант святого Фомы, дорогой кавалер, расцвел в XIII веке. Разумеется, святой Фома не мог заниматься науками, коих в его время не существовало, — чем, впрочем, никто в ту пору и не смущался. Слог его, замечательный по своей ясности, точности, силе и лаконизму, все же не мог сравниться со слогом Бембо, Мюре или Маффеи. (,0,)Но это нисколько не помешало святому Фоме стать одним из величайших умов, когда-либо существовавших на свете. И даже поэтический гений не был ему чужд. Церковь сохранила некоторые его искры, сумевшие впоследствии вызвать зависть и восхищение у самого Сантейля. 1 (,03)А поскольку вы, г-н кавалер, знаете латынь, то я не удивлюсь, если в пятидесятилетием возрасте, удалившись на покой в вашу старую усадьбу (если Господь вам ее возвратит), вы одолжите святого Фому у вашего кюре, чтобы вынести собственное суждение об этом великом муже.
Но возвращаюсь к нашему предмету. Святой Фома получил прозвище «ангела схоластики», а значит, на него и следует ссылаться, чтобы снять обвинение с самой схоластики. И пока г-ну кавалеру не исполнилось 50 лет, я изложу учение святого Фомы об идеях вам, г-н сенатор. Сначала вы увидите, что он и вправду не колеблясь
1Сантейль говорил, что прекраснейшему из своих созданий он бы предпочел гимн, или, как еще говорят, «прозу» святого Фомы к празднику Тела Христова: La u d а , Sion, S а I va t о rem , etc. etc. U02)утверждает, что разум наш в своем нынешнем состоянии порчи не способен ничего понять без помощи образов} Однако послушайте, что он говорит о рассудке и об идеях далее. Святой Фома тщательно различает пассивный интеллект, или способность воспринимать впечатления, и активный интеллект (также именуемый возможным интеллектом), или разум в собственном смысле слова, который судит о впечатлениях. Чувства познают лишь единичное, и только разум возвышается до всеобщего. Предположим, ваши глаза видят треугольник, — но это восприятие, общее для вас и для животного, не делает вас чем-то большим, нежели обыкновенное животное, и человеком, то есть существом разумным, станете вы лишь тогда, когда от треугольника подниметесь к треугольности. Именно эта способность к обобщению и является отличительным признаком человека, делая его тем, что он есть по своей сути, ибо чувства к данной операции совершенно непричастны: они получают впечатления и передают их разуму, но лишь последний может превратить их в осмысленные. Всякая духовная деятельность инородна чувствам, которые не сознают даже своих собственных действий: зрение не видит ни себя самое, ни того, что оно вообще нечто видит.
А сейчас я хочу прочесть вам великолепное определение истины, которое подарил нам святой Фома. «Истина, — говорит он, — есть равенство между утверждением и его объектом». 38Какая глубина и какая точность! — словно сияние истины, которая определяет себя сама! И святой Фома специально предупреждает нас, что речь
1Intellectus noster, secundum statum praesentem, nihil intelligit sine phantasmate (5. Thomae Aquinatis Adversus gentes, lib. III, cap. 41). (104)
здесь идет лишь о равенстве того, что говорится о вещи, с тем, что в вещи заключается, — но сам интеллектуальный акт утверждения не допускает никакого равенства себе, ибо он выше всего и ни с чем не может быть сопоставлен, так что между актом понимания и вещью, которая понимается, какое-либо отношение, аналогия или равенство невозможны. 39
В данный момент для меня не важно, врождены ли наши идеи, созерцаем ли мы их в Боге (105)или как вам еще будет угодно, — входить в подобные детали я пока не намерен. Самое главное заключается сейчас в опровержении противоположного мнения, и потому мы должны прежде всего прочего убедиться, что самые глубокие, самые благородные, самые добродетельные умы вселенной единогласно отвергали чувственное происхождение идей. Перед нами — святое, единодушное и неотразимое свидетельство человеческого разума против грубейшего и презреннейшего из заблуждений. Здесь мы можем остановиться и отложить на время обсуждение этой проблемы.
Как видите, г-н кавалер, я в состоянии слегка уменьшить число этих «почтенных имен», о которых вы упоминали. Впрочем, не стану отрицать: мне приходилось встречать некоторые из них среди защитников «сенсибилизма» (это слово, или какое-нибудь другое, получше, уже стало необходимым) — но признайтесь, не случалось ли вам по несчастью или по слабости оказываться в дурной компании? В таком положении, как известно, вам можно посоветовать только одно: уходите — и пока вы этого не сделаете, над вами позволено с полным правом смеяться (чтобы не сказать хуже).
Если вы, г-н кавалер, окажете мне честь, избрав меня вашим проводником в данной области философии, то после этого небольшого вступления я отмечу следующее обстоятельство: все споры о происхождении идей остаются полнейшей нелепостью до тех пор, пока не решен вопрос о сущности души. Позволят ли вам на суде требовать наследства как родственнику, если не доказано, что вы таковым являетесь? Но ведь точно так же, господа, и в философских дискуссиях существуют вопросы, которые юристы назвали бы преюдициальными: они непременно должны быть разрешены, прежде чем можно будет перейти к прочим проблемам. И если прав был почтенный Тома (,06)в следующем прекрасном стихе: L’homme vit par son ame, et Tame est la pensee, то этим уже все сказано, ибо если мышление есть субстанция, то спрашивать о происхождении идей — все равно что спрашивать о происхождении происхождения. Но вот появляется перед нами Кондильяк и сообщает следующее: «Я буду заниматься исследованием человеческого разума, но не для того, чтобы познать его природу — это было бы слишком дерзким предприятием, — а лишь ради изучения его действий». Не дадим же себя одурачить этой притворной скромностью! Всякий раз, когда вы видите, как философ прошлого века почтительно склоняется перед какой-либо проблемой и уверяет нас, что «вопрос этот превосходит силы человеческого разума», что «сам он ничего не станет делать для его решения» и т. п. — не сомневайтесь: он, напротив, страшится ясности этой проблемы (слишком для него очевидной) и спешит увильнуть в сторону, чтобы оставить за собой право мутить воду. Я не знаю ни одного из этих господ, кому вполне подобало бы священное звание порядочного человека. Сейчас перед нами характерный пример: зачем же лгать? зачем говорить, что вовсе не хочешь высказываться с определенностью о природе души — и при этом совершенно недвусмысленно выражать свое мнение по решающему пункту проблемы, утверждая, что идеи приходят к нам через чувства, а ведь это явным образом изгоняет мышление из разряда субстанций! Но я не вижу, чем же вопрос о природе мышления труднее вопроса о его происхождении, за который берутся с таким бесстрашием. Можно ли представить себе мысль как акциденцию немыслящей субстанции? Или вообразить мысль-акциденцию познающей себя самое и мыслящей о своей лишенной мысли основе? — вот истинная проблема, сформулированная в двух различных вариантах, и что до меня, то я не вижу в ней ничего обескураживающего. Но, в конце концов, каждый волен обойти ее молчанием, — только при этом он должен честно признать и даже предуведомить нас в оглавлении всякого сочинения «О происхождении идей», что предложенное читателю сочинение есть не более чем простая игра ума, некая воздушная гипотеза: ведь сам этот поставленный в сочинении вопрос нельзя всерьез рассматривать, пока не решен предыдущий. Но такое заявление в предисловии к книге не слишком бы способствовало ее успеху, и тот, кто знаком с этим разрядом писателей, не станет ожидать от них подобного проявления порядочности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: