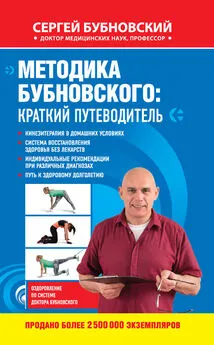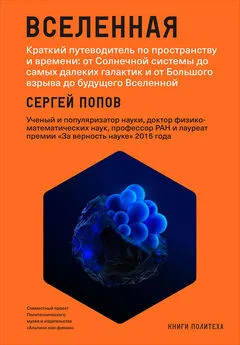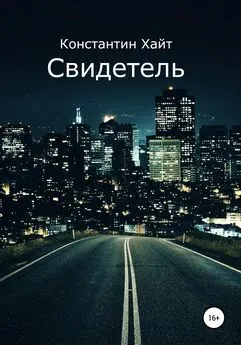Константин Хайт - Коммунизм перед шаббатом. Краткий путеводитель по новой нормальности
- Название:Коммунизм перед шаббатом. Краткий путеводитель по новой нормальности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005563996
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Хайт - Коммунизм перед шаббатом. Краткий путеводитель по новой нормальности краткое содержание
Коммунизм перед шаббатом. Краткий путеводитель по новой нормальности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ладно, до государства мы скоро доберемся, давайте пока про общество. Которое, складывается из правил, норм и ограничений, а вовсе не из средств принуждения к их выполнению. Социальное давление – это не про приставов, которые ломятся ночью в двери, не про коллекторов, ждущих на детской площадке и не про ментов, дубасящих нарушителей общественного спокойствия. Оно про совесть, которая мучает забывшего исповедаться грешника, про друзей, отказывающихся садиться в машину, потому что у вас нет водительских прав, про бдительных бабушек, цыкающих, когда вы шумно кашляете на симфоническом концерте и бросающих грозные взгляды, стоит не вовремя перекреститься в соборе. Социальное давление деперсонифицировано и столь же виртуально, как и собственно общество, но от этого оно не становится слабее. Наоборот, чем сильнее социум, тем меньше нужны ему механизмы непосредственного насилия, тем эффективнее его члены ограничивают себя сами. Необходимость регулярного принуждения – признак того, что общественные механизмы недостаточно отлажены, возможно даже нелегитимны, то есть не отражают консенсус между отдельными индивидуумами.
В перенаселенном мегаполисе социальное давление зашкаливает: туда не ходи, этого не трогай. Норм и регламентов так много, что значительная их часть де-факто остается невыполненной. Невозможно следить за каждым пассажиром лифта, или посетителем торгового центра, не сопрет, так нагадит. Но само существование правил и ограничений превращает толпу в общество, а признание большинством заставляет их соблюдать. Более, или менее. Не под страхом наказания, а в силу согласия между индивидуумами – если согласия нет, то и наказание не поможет, а правила, соблюдаемые лишь принудительно, общества не образуют, наоборот, разрушают.
У монаха-скитника общества нету. Руководствуясь верой и здравым смыслом, он может завести себе какие-то правила, но эти индивидуальные самоограничения результатом консенсуса не являются и, соответственно, не имеют к социальным нормам никакого отношения. Даже текстуально с ними совпадая. Робинзон мог носить штаны и шапку, но делал это не из соображений приличия, а для защиты от солнца и по привычке. Никакое общество на него не давило, никаких болей, кроме фантомных, заложенных религией и воспитанием, он не испытывал. Ни к чьему одобрению не стремился, ничьего порицания не опасался.
Разумеется, банда беглых каторжников может убить монаха-скитника. За косой взгляд, за неправильное слово, за несоответствие блатным понятиям. Но это случится не потому, что монах нарушил какие-то социальные нормы, а наоборот вследствие того, что он и заезжие урки к одному обществу не принадлежат, общих правил и ограничений не имеют, и, оказавшись вместе, лишены инструмента, гарантирующего будущее и для одних, и для другого.
Общество – не друг и не враг, не чье-то вредное порождение и не благодатный дар, оно – конструкция, позволяющая группе людей отправлять свои естественные потребности, в данном случае – потребность в прогнозируемом будущем, не мешая друг другу. Что-то вроде сортира с кабинками, только посложнее.
Глава V. О благах и копытах
Общество с вождями, шаманами, капитанами и баталерами отлично обходится без насилия. И много без чего еще, включая штаны, бескозырки, кадровую армию и валютную систему. Ему отлично живется до тех пор, пока в нем не начинает накапливаться благо.
Звучит религиозно и немного мистически, однако благо – это просто все, что имеет ценность. Материальное и нематериальное, реальное и виртуальное, физически существующее и искусственно придуманное. Шкура мамонта – благо, и земельный надел – благо. Орден – благо, деньги на банковском счете, свечной заводик в Саратове, фабрика мягких игрушек, груз героина, графский титул, епископский диоцез, кафедра в университете. Все эти блага необходимо как-то поделить. И вот тут появляется оно – Государство.
Маленький нюанс. Делить можно только то, что еще не поделено. То, что уже поделено – тоже можно, но сперва его нужно отобрать, а это бывает себе дороже. Соответственно, любые блага подразделяются на распределенные, для которых стоимость отбора дороже самого блага, и нераспределенные. Если нераспределенных благ нет, или их мало – государство не образуется вовсе, а уже имеющееся – хиреет и дохнет. Потому, что государство в первую очередь распределительный механизм, и уже для этой своей первозданной цели использует оно все остальные инструменты: и аппарат насилия, и финансы, и коррупцию, равно как и борьбу с ней, и много чего еще. Впрочем нет, не слишком много. Государство ведь, в сущности, простая штука, поскольку базовых механизмов распределения всего два.
В первом случае блага покупаются. Вымениваются на какие-то другие ценности, обычно с помощью универсальной метрики, называемой деньгами. В идеальном случае купить может кто угодно и что угодно – было бы на что. Такое государственное устройство называют капиталистическим, и известно оно нам, да простят меня классики марксизма, с незапамятных времен, как минимум от царя Хаммурапи. Того самого, на стеле которого выдолблены расценки: сколько бабла нужно отвалить за смертоубийство, сколько за членовредительство, сколько за женщину и сколько за козу.
Во втором случае блага даруются. От вышестоящего начальника нижестоящему. Герцог графу, фараон – номарху, председатель исполкома – директору завода. Тут уж ничего не купишь ни за какие коврижки, без оммажа не получить тебе даже самого захудалого лена, не говоря уже про Орден Подвязки, или звание Героя Труда. Такое государство кличут феодальным, и известно оно нам примерно столько же, главным образом потому, что о более древних временах нам вообще ничего неизвестно.
Прежде, чем начать ковыряться в государственных кишках, обратим внимание, что государство опять-таки никто специально не выстраивает. Случается у общества нераспределенное благо – тут-то оно само и возникает, как черт из табакерки. Настолько, что, бывает, вовсе приезжает со стороны, как Александр Ярославович в Новгород, с цоканьем копыт, мечом и дружиной. Потом уезжает и приезжает заново.
Меч и дружина, кстати, практически обязательны: если общество может позволить себе дозировать насилие гомеопатически, то блага необходимо защищать. Ну, или отбирать при случае. Понятие «делить» то и другое подразумевает.
Между прочим, Александр Ярославович, да в вообще вся древнерусская система княжения, дает нам отличный пример отъемлемости государства от общества и наоборот. Когда одно отдельно, другое отдельно, и отношения между ними сугубо деловые, особенно если считать таковыми средневековую разновидность рэкета. Заложенные Рюриком порядки, окончательно рассосавшиеся лишь веку к XVI, никаким углом, ни тупым, ни острым, не вписываются в формулу «государство, как общественный институт». Вот уж яркий пример, когда мухи сами, а котлеты порознь. Да, впрочем, Англия после Бастарда Вильгельма ничем особо не отличалась, разве что тамошние князья чуть меньше кочевали между уделами, да народной вольницы было меньше на малую толику, если только не врут нам летописи и наша их анахронистическая интерпретация.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: