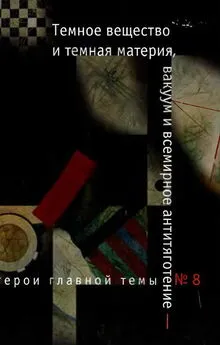Знание-сила, 2006 № 07 (949)
- Название:Знание-сила, 2006 № 07 (949)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2006
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Знание-сила, 2006 № 07 (949) краткое содержание
Знание-сила, 2006 № 07 (949) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Интервью Кинси брались в том же социальном месте, где работал Фрейд и где сексология и социология секса имеет свое поле: средний класс. У него есть эти проблемы, но могут быть и есть средства их разрешения. Мораль среднего класса была этим, с одной стороны, подорвана, а с другой стороны, конечно, необычайно укреплена. Мне кажется, сексуальная революция начиналась тогда. Книга не распространяла новые социальные практики, она давала информацию о распространенности уже существующих практик.
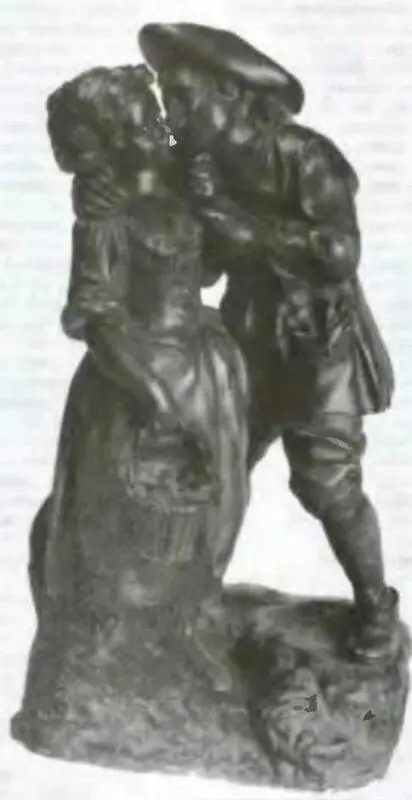
Дотошный и ортодоксальный позитивист, ученый, а не учитель жизни, Кинси отказывался от своего имени указывать, что есть, а что не есть норма, не давал страждущим ответа, какова нормальная частота половых контактов для мужчины. Он приводил диапазон наблюдаемых случаев: разрыв между самой редкой и самой частой из встретившихся ему практик — 1500 раз. Извольте, ищите себя. Он сделал великое терапевтическое дело. Тс, кто задавался вопросом: а не слишком ли редко это у меня или не слишком ли часто это у меня, получили ответ — ты такой, какой ты есть.
Множество других сведений, исцеляющих средний класс, содержалось в этой книге.
В этом смысле заслуга Кинси перед американским обществом необычайно велика.
Может быть, кто-нибудь из читателей знает его именно под этим именем . Автор нескольких книг, которые вышли наконец и у нас, он сейчас живет в Бостоне, но изначально жил в Москве, в писательском кооперативном доме. Плоть от плоти этой среды, сын мамы-литератора, по-моему, очень хорошего. Это мальчик из того самого интеллигентского круга, который в 1960-е настойчиво обсуждал вопрос: сколько людей унесли репрессии тридцать седьмого года? На тот момент никаких оценок, между которыми можно было хотя бы выбирать или которые можно было бы обсуждать, опубликовано не было. Хотя всем было понятно, что жертв много, надо было знать, сколько именно: очень хотелось предъявить счет. И было понятно, что это знание непременно тайное. Пока его не опубликуют, оно не может быть открыто. Оно должно собираться как тайное знание.
Молодой человек решил, что он сможет узнать и сможет сосчитать жертвы. Как? Видимо, началось это со знакомых, приходивших к ним в дом, которых он просил: расскажите о ваших родственниках. Они рассказывали о дяде Сереже, а дядя Сережа погиб в 37-м году. А тетя Тамара умерла в ссылке. Такое, казалось, было в каждой семье. И парень подумал, что если он это будет записывать, то в конце концов выйдет на число жертв.

Я имел честь разговаривать с ним много лет спустя, сравнительно недавно. Он сказал, что теперь понимает, насколько методически ложной была сама идея: говоря нынешним языком, через эту выборку нельзя выйти на генеральную совокупность. Эти списки просто не будут исчерпывающими, а у него была идея создать исчерпывающий список.
Но это понимание пришло потом, и в моих глазах ошибочность самой постановки задачи абсолютно не умаляет значения того, что делалось. Потому что, кроме всего прочего, были обнаружены вещи, которые очень полезно знать людям моей профессии: что можно получить и чего нельзя получить опросными методами. Например, скольких членов семьи может перечислить один респондент? Человек под именем Сергей Максудов знает, в отличие от нас, сколько людей в среднем может вспомнить представитель такого-то слоя, человек в таком-то возрасте. Он вышел на те множества, где вполне правомерно применение счетных процедур. Он решил много очень интересных методических задач, узнал массу вещей, касающихся социальной действительности, не отвечающих на его вопрос, но отвечающих на много других возникших по ходу дела разных вопросов.
Он не смог выполнить свой долг перед всеми погибшими, но тысячи имен были его трудами сохранены. А это — выполнение долга перед живыми.
Если спросить почти любого москвича, как тот оценивает свое жилье, рано или поздно он обязательно упомянет о цене квадратного метра в своем доме, в своем районе. Благодаря этим ценам мы примерно представляем себе рельеф города и знаем, что на что можно поменять, в каком случае придется сколько добавлять. Это знает не только любой риелтор: такая информация широко доступна москвичам. Но это теперь, когда существует рынок жилья, когда доступны компьютерные базы данных.
Много лет назад Юрий Вешнинский начал выяснять то, что можно назвать сегодня социальной экологией Москвы. Он начал работать опросными методами, в одиночку, точно так же, как три моих предыдущих героя. Он опрашивал людей там, где они были в сборе — в студенческих аудиториях опрашивалось разом несколько человек. Это методически вполне допустимо. Там, где не было возможности опрашивать одновременно, люди опрашивались последовательно. Он просил их назвать самый лучший и самый худший район Москвы, самый красивый и самый некрасивый. Наивные на первый взгляд вопросы. Но за ними стояла концепция города как сложной социальной системы, размешенной в пространстве и времени. Занимаясь этими опросами много лет, Ю.Вешнинский мог показать, как меняется составляемая им карта города, как смещаются фокусы оценок. Снова скажу: руками одного- единственного человека была собрана информация в таком объеме, что правомерно было применение счетных процедур, а это обязательно должен быть счет на сотни.

Впервые то, что как бы все знают, было сделано предметом рефлексии, представлено в рамках научного предмета социальной географии и опять-таки напрямую было предъявлено общественности в виде особой карты Москвы. Научная общественность, как водится, отнеслась по-разному к этой собранной информации и к ее обобщениям. Через некоторое время появились люди, которые анализировали практику обменов, тогда еще без участия денег. Появились специальные бюллетени, сведения из них можно было статистически обработать. Но это было сделано позже. А по сути дела, первая заявка о том, что такое запад Москвы, что такое юг, что такое юго-запад, какие в Москве зоны благоприятны, какие — неблагоприятны, была сделана опросными методами и действием одного человека.
Я рассказал о людях, чьи замечательные открытия и наблюдения были достигнуты в одиночку упорным трудом, соизмеримым с жизнью человека. Трудом упорным, бесплатным. Нормальная наука, как правило, в одиночку не делается. Но эти люди своими усилиями вырабатывали идеи, приемы, методы, которыми дальше пользовались и пользуются остальные, работающие в учреждениях, фирмах, работающие за деньги. То есть так, как действует академическая или коммерческая социология. А деятельность, которая готовит для нее будущие поля исследований, методы, проблемы, подлежащие социологическому анализу, я предлагаю назвать социографией. О четырех ее героических фигурах я и пытался рассказать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: