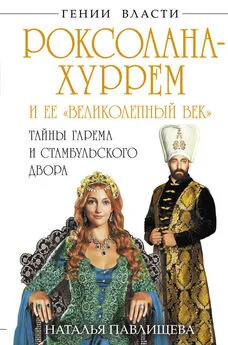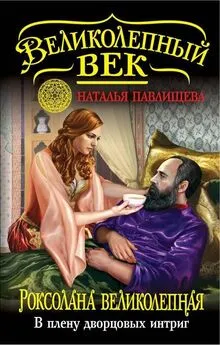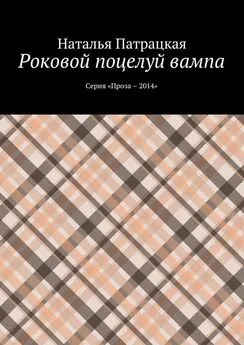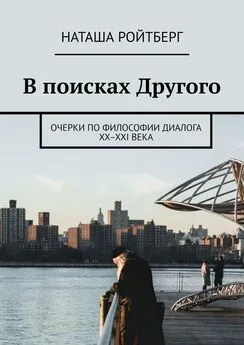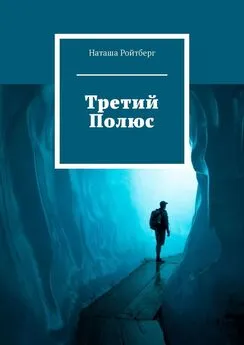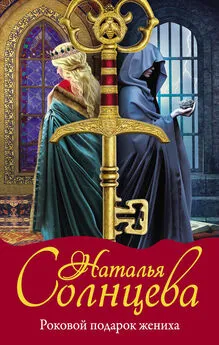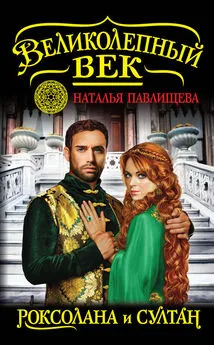Наталья Ройтберг - Рок-поэтика
- Название:Рок-поэтика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Ройтберг - Рок-поэтика краткое содержание
Каковы основные законы рок-жанра? Почему рок — это не только и не столько определенный музыкальный стиль, но — способ мышления и мировосприятия, самоощущения и самопознания?
Ответы на эти и некоторые другие вопросы Вы найдете в книге.
Рок-поэтика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Этим обусловлен ряд особенностей поэтики его творчества в аспекте взаимоотношения с аудиторией, в отличие, например, от такой схемы отношений автор-реципиент, где автором выступает целый коллектив во главе с рок-лидером (см. выше): «Ты хочешь быть с гитарой или с группой?» — «Я не могу решить сейчас, нужно ли мне создавать группу. Из кого? Я не могу делать это формально, не в туристическую поездку собираемся. Лично у меня нет таких людей, они ко мне как-то не пришли. А если появятся, я скажу — очень хорошо, если придет человек и сыграет так, что я почувствую, что он меня понял душой, у него душа в унисон моей. Если получится, я буду рад, это будет богаче <���…> Если будут друзья и они будут любить то же самое, значит, мы будем сильнее. Но я могу петь с гитарой» [195, с. 204].
Интересно собственное высказывание поэта о специфике взаимоотношений между исполнителем и аудиторией в роке: «Если рок-н-ролл мужского рода, то партнер должен быть женского. Понимаешь? Когда я выступаю, у меня есть некий оппонент — публика, кстати, именно женского рода» [196]. Таким образом, для Башлачева исполнитель и аудитория составляют некое единство не столько структурно-композиционного, сколько «органического», антропоморфного характера.
По воспоминаниям друзей, на т.н. «квартирниках» и «тусовках» Башлачев никогда не афишировал своих песен и исполнял их по крайней просьбе 50 50 «… как я подметил, он пел в компании неохотно, на десерт. Он трепетно и уважительно относился к собственным песням, видимо, пение для него было неким священнодействием» [196].
. Показательно пренебрежительное отношение к, так сказать, материально-физической стороне своего творчества, к фиксации и сохранению своих произведений.
Черновые записи текстов песен и стихотворений редко датировались автором и носят неупорядоченный характер. Студийных, качественных записей профессионального уровня Башлачев также не делал.
Единственной его попыткой записать свои произведения в виде некоего гармоничного концептуального целого является им же самим спродюсированные альбомы «Вечный Пост» и «Русские баллады» (1986). Записываться в студии Башлачеву было невероятно тяжело — прежде всего, потому что не было аудитории, и его песни, носящие исповедально-сокровенный характер, словно бы «повисали в пустоте»: «Он не мог петь в обстановке студии <���…> СашБаш [прозвище Башлачева — Н.Р.] не мог работать с техникой, у него сразу же складывались какие-то мистические отношения с приборами. Я помню, как он раздевался в студии догола, стоял при записи вокала на коленях, ползал на четвереньках, — словом, пробовал все способы борьбы с микрофоном. Он не мог петь в пустоту, в абстракцию, ему была необходима хотя бы одна девушка в аудитории, хотя бы одна» [197]. Приоритет принципа «здесь и сейчас» в его творчестве обуславливал необходимость только живого общения с аудиторией, не опосредованного никакой техникой и аппаратурой; прямого энергообмена: «Концерт был для него главным и наилучшим событием: только так он давал людям энергию и тут же получал ее обратно» [197].
Схожее отношение к процессу звукозаписи было и у западной рок-легенды, Джима Моррисона, с которым Башлачева роднит мистическое совпадение срока прожитой жизни — 27 лет (Моррисон (1943—1970), Башлачев (1960—1988)); мифопоэтика как основа творчества (универсальные мифологические схемы у первого и обращение к национальной культурной традиции у второго [см.: 198—199]); приоритет жизнетворческой установки, реализовавшейся в изживании биографического мифа обоими [199] 51 51 «Творческое молчание последних лет жизни и самоубийство поэта [А. Башлачева — Н. Р.] — результат абсорбации креативной личности антикреативным пространством массовой культуры. Артизация творческого пути художника приводит к конфликту реальной творческой личности и имиджа, формируемого массовой культурой, что, в свою очередь, нередко разрушает творческую личность (самый яркий пример на западе для нас, прежде всего, Джеймс Моррисон)» [200].
. Подобно песням Башлачева, песни «Doors» выходили за рамки искусства и творчества в саму жизнь: «Работать в студии, без аудитории, было катастрофически тяжело, деятельность „Doors“ носила характер „события“» [198, с. 68]. Иными словами, такой тип творчества, используя терминологию Ричарда Хоггарта, можно обозначить как «живое» искусство, в отличие от искусства «воспроизводимого» [там же] (ср. с суждением Башлачева о разделении «искусства» и «естества» 52 52 «Если это искусство… хотя „искусство“ тоже термин искусственный. Искус <���…> Если это естество, скажем так, то это должно быть живым <���…> Ты должен прожить песню, проживать ее всякий раз. Ты не должен делить себя на себя и песню, это не искусство, это естество» [28, с. 206]. Ср. также: «Искусство должно умереть, — в том смысле, что его должно заменить нечто обыкновенное, человеческое» (А. Платонов) [цит. по: 74, с. 380].
).
Поэтика произведений Башлачева
Одно из произведений Башлачева построено сюжетно как общение со слушателем — «Случай в Сибири» — и актуализирует проблему ложной, неверной «раскодировки», истолкования произведений поэта: «Мне было стыдно, что я пел, // За то, что он так понял, // Что смог дорисовать рога, // Что смог дорисовать рога // Он на моей иконе…» 53 53 Здесь и далее произведения Башлачева цитируются по одному из наиболее полных собраний его песен и стихотворений «Как по лезвию» [28].
. Здесь имеет место актуализация прямого обращения исполнителя к слушателю, который одновременно является персонажем произведения. Две другие башлачевские «вещи» эпического масштаба (каждая длится более 10 минут, и сюжетно, и композиционно их трудно определить как «песни») примечательны тем, что в них «событие» самого «рассказа» и «события рассказывания» совмещены и практически не разграничиваются. В первой автор выступает одновременно рассказчиком-наблюдателем и непосредственным персонажем этих песен:
И мне на ухо шепнули:
— Слышал?
Гулял Ванюха…
Ходил Ванюша, да весь и вышел.
Без шапки к двери.
— Да что ты, Ванька?
Да я не верю!
Эй, Ванька, встань-ка!
Во второй — судьба героя «коррелирует» как с сюжетом рассказа (весь дом сгорает от одной шальной искры, и герой погибает), так и с сюжетом события рассказывания (герой прикуривает папиросу и опаливает себе бровь):
Как горят костры у Шексны-реки
Как стоят шатры бойкой ярмарки <���…>
Все, как есть, на ней гладко вышито
Гладко вышито мелким крестиком
Как сидит Егор в светлом тереме
В светлом тереме с занавесками <���…>
И пропало все. Не горят костры,
Не стоят шатры у Шексны-реки,
Нету ярмарки.
Только черный дым стелет ватою,
Только мы сидим виноватые.
И Егорка здесь — он как раз в тот миг
Папиросочку и прикуривал
Опалил всю бровь спичкой серною.
Он, собака, пьет год без месяца,
Утром мается, к ночи бесится
Да не впервой ему — оклемается,
Перемается, перебесится,
Перебесится и повесится…
Интервал:
Закладка: