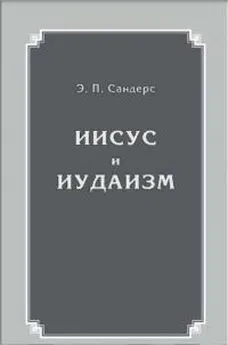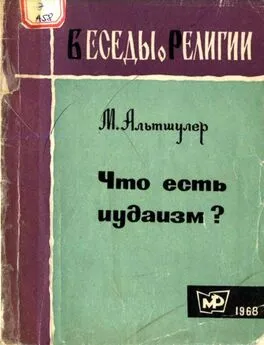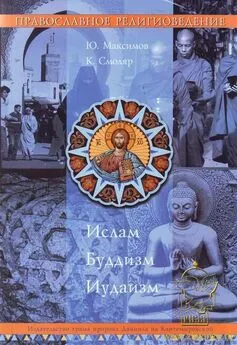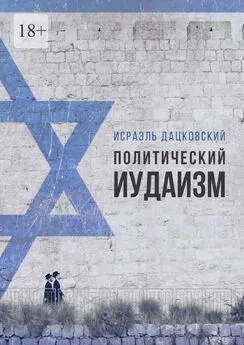Сандерс Э.П. - Иисус и иудаизм
- Название:Иисус и иудаизм
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Социум
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сандерс Э.П. - Иисус и иудаизм краткое содержание
В книге обобщаются и заново оцениваются результаты исследований, ведущихся уже более 100 лет. Издание снабжено научным аппаратом и послесловием переводчика.
Иисус и иудаизм - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Р. Иешуа бен Карха сказал: Почему раздел Слушай, Израиль (Втор. 6:4—9) предшествует [разделу] И это случится, если вы будете слушать [неустанно Мои заповеди] ? — потому что человек должен сначала взять на себя ярмо царства небесного, а потом ярмо заповедей (Брахот 2.2).
В других отрывках говорится, что Израиль принял «царство Божие» на горе Синай 83. Здесь вместо слова «царство» могло бы использоваться слово «договор», если бы не раввинистическая тенденция ограничивать употребление слова «договор» ( b erith ) значением «обрезание», т.е. договор с Авраамом. «Принятие царства» может относиться либо к ежедневному возобновлению обязательств договора Бога с Израилем (как это делается при произнесении Shema‘ 32*), либо к новым обязательствам, принимаемым в момент вхождения в основанную на этом договоре общину. Существуют также раввинистические притчи, в которых Бог — это царь, и его роль как царя состоит в установлении и поддержании договора с Израилем *4. Хотя формулировки разные, смысл «царства», по-видимому, не отличается от смысла, преобладающего в евангельском материале, в котором идет речь о вхождении в царство. Эта параллель не совсем точная. В евангельских отрывках упор делается на индивидуальное приобретение вечной жизни, тогда как в раввинистических — на обязательства по отношению к Богу, который искупил Израиль и спасет его. Но есть и общий смысл, который присутствует в речениях о «вхождении в царство» и на который проливает свет раввинистическое использование слова «царство»: имеется соглашение об обязательствах и повиновении со стороны человека и обещании (явном или подразумеваемом) спасающей милости со стороны Бога. Вот некоторые из наиболее интересных примеров:
Мф. 7:21: «Не всякий говорящий мне “Господи, Господи” войдет в царство небесное, но исполняющий волю отца моего, который на небесах». Следующий стих говорит о «том дне» и, следовательно, связывает эти слова с эсхатоном.
Мф. 18:3//Мк. 10; 15//Лк. 18:17: «Если не обратитесь и не станете как дети, не войдете в царство небесное».
Мф. 19:23//Мк. 10:23//Лк. 18:24: «Богатому (или владеющему имуществом) трудно будет войти в царство небесное».
2. С этим близко связано представление о царстве, полное установление которого еще только предстоит: «Да придет царство твое!» (Мф. 6:10), словоупотребление, имеющее хорошо известные параллели в еврейской литературе 85.
3. Царство придет как сверхъестественное, неожиданное событие, в ходе которого праведные будут отделены от нечестивых. Отличие от предыдущей категории состоит в использовании драматических образов. Одно из главных выражений такого представления о царстве можно найти в материале, который в основном, хотя и не полностью, имеется только у Матфея и для которого отличительными выражениями являются «конец века» и «ангелы». Примером может служить матфеевская «интерпретация притчи о плевелах»: «так будет в конце века: пошлет Сын человеческий ангелов своих, и выберут из царства его все skandala и делающих беззаконие, и бросят их в печь огненную» (Мф. 13:40—42). Никто, я думаю, не будет настаивать на аутентичности этой перикопы, но этот язык возникает во многих местах, в том числе в одной из притч, которые далее приведены у Матфея (и из которой он, возможно, перешел в «интерпретацию»): «Подобно царство небесное большой сети, закинутой в море... Так будет в конце века: выйдут ангелы и отделят злых от праведных» (Мф. 13:47—50) *6. Тот же язык возникает в «малом апокалипсисе», хотя наиболее точные словесные параллели — это опять параллели с версией Матфея: «Когда это будет, и какое знамение... конца века?» (Мф. 24:3//Мк. 13:4//Лк. 21:7). Сын человеческий явится (Мф. 24:30//Мк. 13:26//Лк. 21:27), «и пошлет он ангелов своих с трубою великой, и соберут избранных его от четырех ветров...» (Мф. 24:31//Мк. 13:27). Далее у Матфея еще два раза повторяются эти выражения: «Когда же придет Сын человеческий во славе своей, и все ангелы с ним, тогда сядет он на престоле славы» (Мф. 25:31); «И вот, я с вами все дни до конца века» (Мф. 28:20). И, наконец, в трех ветвях предания имеется отрывок, представляющий собой, очевидно, часть более сложной перикопы:
Мф. 16:27
Ибо придет Сын человеческий во славе Отца своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делу его.
Лк. 9:26
Ибо, кто постыдится меня и моих слов, того Сын человеческий постыдится, когда придет во славе своей и Отца и святых ангелов.
Мк. 8:38
Ибо, кто постыдится меня и моих слов в роде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын человеческий, когда придет во славе Отца своего с ангелами святыми.
Из этих слегка различающихся форм самая ранняя, по-видимому, приведена у Матфея. У евангелиста Матфея не было причин опускать «постыдится меня и моих слов» (ср. Мф. 10:22, «за имя мое»), а упрек «этому роду» подобен критике в Мф. 12:39—41 // Лк. 11:29 сл., которую Матфей повторяет в 12:45 87.
Описание этой категории материала речений представлено здесь столь подробно по нескольким причинам. Во-первых, в исследованиях последнего времени наблюдается общая тенденция не отводить ей большого места в портрете Иисуса. Этого достигают благодаря тому, что о данных речениях просто не упоминают, или отрицают их аутентичность, или (что делают чаще всего) подменяют их общей категорией «чаяния будущего», которая затем описывается в менее определенных терминах 88. Я не собираюсь доказывать, что эту категорию речений нужно выставить на самое видное место (далее об этом будет вкратце сказано), но боюсь, что ее важность преуменьшается не столько потому, что доказана незначительность ее места в вести Иисуса, сколько потому, что исследователи отдают предпочтение менее драматическому материалу.
Второй интересный момент, связанный с этой категорией речений, — их особая, а на самом деле исключительная связь с Евангелием от Матфея. Они занимают в нем видное место, и редакции соответствующих отрывков в этом евангелии более согласованы, чем в остальных, но предположить, что все это было создано евангелистом Матфеем, невозможно. Чтобы правильно рассортировать эту часть материала, нужно было бы решить синоптическую проблему 33* и, кроме того, проанализировать работу Матфея как редактора. Вместо этого я предложу набросок возможного (и, на мой взгляд, правдоподобного) сценария. Евангелист Матфей заканчивает повествование стихом 28:20. В этом стихе он подхватывает выражение «конец века» и благополучно относит его к неопределенному будущему. «Интерпретация притчи о плевелах» принадлежит некоему промежуточному редактору или автору. Он же, возможно, и написал сцену суда в Мф. 25. Евангелист Матфей (в данном сценарии) не является автором этих двух отрывков. Его мысль занята скорее продолжающейся миссией и индивидуальным вхождением последователей Христа «в царство небесное» *9. Так или иначе, в Евангелии от Матфея собрано необычайно много материала, связанного с темами «Сын человеческий придет судить», «ангелы» и «конец века». Возможно, здесь просматриваются интересы промежуточного редактора.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: