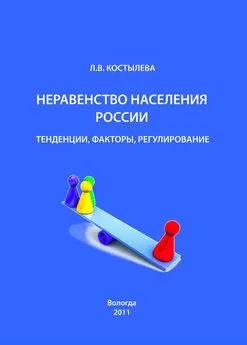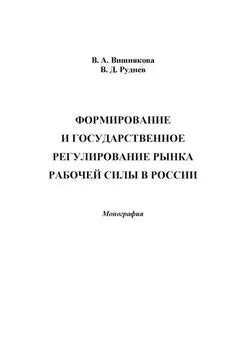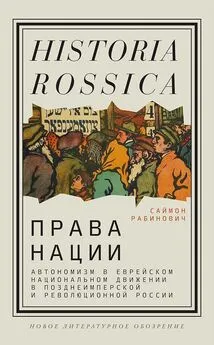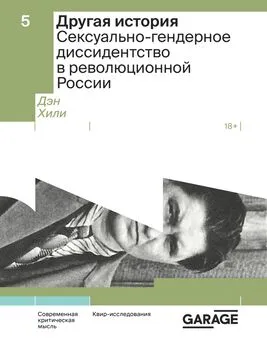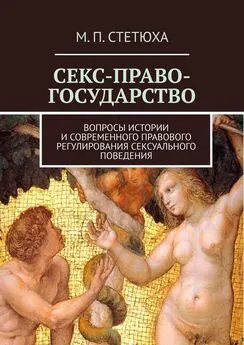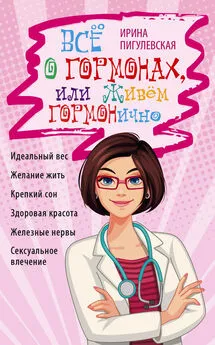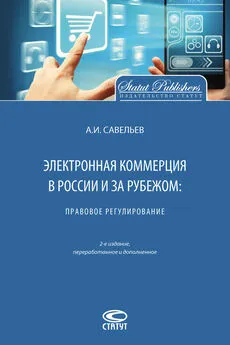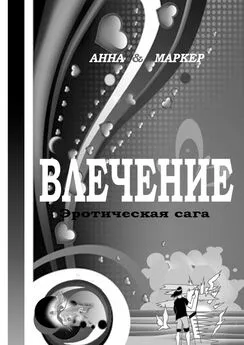Дан Хили - Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства
- Название:Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2008
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дан Хили - Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства краткое содержание
Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Несколькими неделями после Октябрьской революции 1917 года Народный комиссариат юстиции, возглавляемый левым со-циалистом-революционером (ЛСР-эсером) Исааком Захаровичем Штейнбергом (1881—1957), представил проект уголовного статута [Уголовного уложения 1918 года] как часть амбициозного кодекса законов русской революции 76. Левые эсеры не скрывали своей высокой оценки Уголовного уложения 1903 года, и заместитель народного комиссара юстиции и руководитель Кодификационного отдела Комиссариата юстиции Александр Александрович Шрейдер отмечал в объяснительной записке к левоэсеровскому проекту «Советского Уголовного уложения 1918 года», что «комиссариат <...> счел необходимым в корень его (Уголовное уложение 1903 г. — Ред.) переработать и пересмотреть с точки зрения нового революционного правосознания» 77. Действительно, сопоставление Уголовного уложения 1918 года А.А. Шрейдера с Уложением 1903 года демонстрирует сходство их статей, подчеркивая укорененность первого в последнем 78.
В дебатах по поводу проекта Уголовного уложения 1903 года либералы выступали с критикой запрета добровольного мужеложства, но добиться его отмены не смогли. Вариант А.А. Шрейдера хотя и исключил пункт статьи против добровольных актов, но сохранил пункт с детальным описанием актов, направленных против слабоумных или с применением насилия. Соответствующая статья носила название «Мужеложство» и так же, как в Уголовном уложении 1903 года, находилась внутри главы «О непотребстве», специально посвященной половым правонарушениям 79. В результате законом о мужеложстве мог быть достигнут баланс между принципами согласия на совершение акта, способностью понимать «характер и значение» происходящего и ограждением от преследования слабоумных, другими словами — то, о чем шестнадцатью годами ранее писал В.Д. Набоков 80. Могло быть легализовано не только простое мужеложство между взрослыми, т. е. лицами от шестнадцати лет и старше, но и, в соответствии с духом и буквой проекта Уголовного уложения 1903 года, оставаться ненаказуемым мужеложство с мальчиками четырнадцати—пятнадцати лет, если на то было осознанное согласие несовершеннолетнего партнера. Первые руководители Народного комиссариата юстиции прислушались в этом вопросе к мнению В.Д. Набокова: законом не могут ставиться в один ряд молодые «катамиты», занимающиеся проституцией в российских городах, и «невинное» юношество 81.
В объяснительной записке к проекту 1918 года А.А. Шрейдер ограничился декларативным пояснением причины подобной модификации проекта Уголовного уложения 1903 года, сообщив только, что оно являлось «крупным шагом вперед от архаического, громоздкого и противоречивого Уложения о Наказаниях 1845 года». Рассматривая эволюцию «демократических» законодательных систем от тирании «древних сатрапов» и абсолютных монархий («государство — это я» Людовика XIV), А.А. Шрейдер заключал, что для обуздания «анархии» государство должно быть готово применить силу, но это «печальная необходимость». Уголовное уложение призвано регулировать нормы законного применения силы государством. Предлагаемый статут должен поставить государство на службу закону, но не наоборот. Нормы меняются вместе с правовым сознанием общества. Необходимо, чтобы человек обладал «не минимумом прав личности, которые коллектив не должен нарушать, а, скорее, максимумом требований, предъявляемых личностью к коллективу». Критериями, на которые опиралась ревизия Уголовного уложения 1903 года, были «блага реальной человеческой личности и интересы международного солидарного труда» 82. Упор А. А. Шрейдера на максимальное расширение прав личности в рамках правового государства отвечал требованию упразднения антимужеложного статута.
В марте 1918 года из-за разногласий по поводу Брест-Литов-ского мирного договора левые эсеры вышли из коалиции с большевиками, и во главе Народного комиссариата юстиции был поставлен Петр Иванович Стучка (1865—1932), смененный 22 августа 1918 года Дмитрием Ивановичем Курским (1874—1932).
А.А. Шрейдер был уволен с поста заместителя народного комиссара, а его место занял большевик Мечислав Юльевич Козловский (1876—1927), которому и поручили пересмотр уголовного законодательства. Проект «Советского Уголовного уложения 1918 года», предложенный левыми эсерами, был раскритикован П.И. Стучкой за защиту интересов буржуазии и недостаточность революционной сознательности 83. В последующие два года Комиссариат юстиции практически не продвинулся в разработке большевистского Уголовного кодекса. Это объяснялось как трудностями Гражданской войны, так и недостаточностью выделяемых Комиссариату средств 84. Тем не менее авторитетные юристы изучали опыт советских судов, слушавших дела в отсутствие ясного уголовного законодательства, а предложения относительно Уголовного кодекса постоянно выдвигались в ходе дискуссий на коллегии Комиссариата юстиции. В 1919 году под руководством Д.И. Курского были разработаны и утверждены постановлением НКЮ от 12 декабря 1919 года «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР», став основой Общей части УК РСФСР 1922 года. Уже в 1920 году коллегия пришла к выводу, что четко выраженные нормы, сформулированные в Москве и отражающие революционную сознательность, должны прийти на смену противоречивым и анахроничным местным законодательствам, был взят курс на разработку Особенной части Уголовного кодекса 85.
Суд по делу о «педерастии», состоявшийся в период отсутствия кодифицированного уголовного закона, продемонстрировал, как главные лица Комиссариата юстиции рассматривали проблему гомосексуального правонарушения. В конце 1919 года восьмой отдел Комиссариата юстиции, отвечавший за отделение Православной Церкви от государства, приложил усилия, чтобы найти доказательства для возбуждения дела против епископа Звенигорода Палладия, обвинявшегося в «растлении мальчика и противоестественном пороке (педерастии)» 86. Палладий был близким другом патриарха Тихона (Белавин, Василий Иванович; 1865—1925), пославшего епископа в начале 1919 года предотвратить национализацию Ново-Иерусалимского монастыря. Когда большевики в конце концов захватили монастырь, они обвинили Палладия в противоестественной связи с Иваном Волковым, четырнадцатилетним келейником. Воинствующие атеиста из Восьмого отдела начали широкомасштабное расследование половой жизни епископа. В октябре 1919 года Палладий предстал перед судом в Москве, был приговорен к пяти годам тюрьмы, но позднее, в январе 1920 года, освобожден по амнистии.
Для большевистских юристов политическое значение дела Палладия определялось как его близостью к патриарху Тихону, так и потребностями текущего момента. Начало следствия по делу Палладия совпало по времени с попытками патриарха Тихона найти способ сосуществования с враждебным советским режимом. Предание Тихоном анафеме большевиков в 1918 году имело для Церкви катастрофические последствия. Ныне же он сделал ряд заявлений, провозглашавших новое направление церковного нейтралитета в политике 87. Юристы-атеисты из Комиссариата юстиции стремились запятнать отход Тихона от мирских проблем к духовным, поднимая на щит данный эпизод, обнажавший развращенность церковников 88. Их деятельностью руководили непосредственно народный комиссар юстиции Д.И. Курский и коллегия комиссариата, в том числе начальник восьмого отдела Петр Ананьевич Красиков (1871—1939) и член коллегии Николай Александрович Черлюнчакевич (1876—1938). Именно эти люди в конечном итоге разработали первый большевистский Уголовный кодекс 89.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: