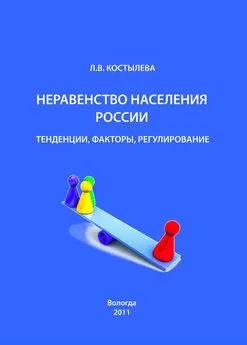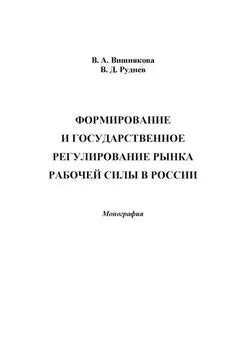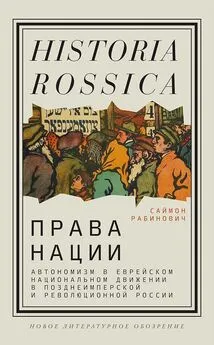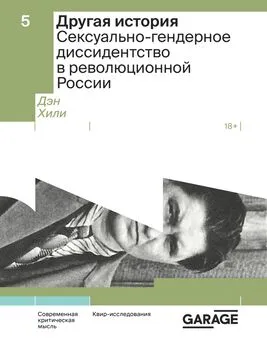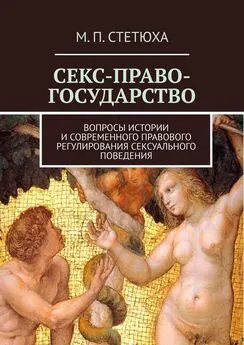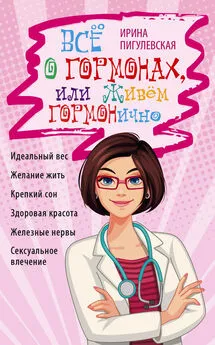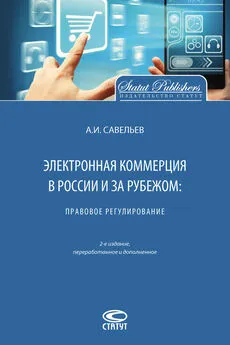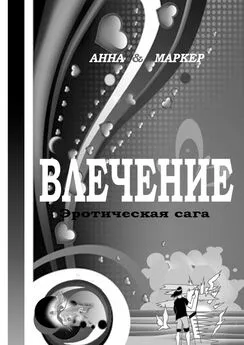Дан Хили - Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства
- Название:Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2008
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дан Хили - Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства краткое содержание
Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Этот «явно эксцентричный» эпизод времен культурной революции помогает понять и другие. В 1929 и 1930 годах были изданы тома двух главных советских энциклопедий («Большой медицинской...» и «Большой советской...») со статьями о «гомосексуализме» 61, полными оптимизма и выражавшими уверенность, что в недалеком будущем будут открыты биологические механизмы данной половой аномалии, а гомосексуальная личность обретет должный статус. Редактор первого издания «Большой медицинской энциклопедии» народный комиссар здравоохранения Н.А. Семашко поручил психиатру М.Я. Серейскому написать статью о гомосексуальности. Это свидетельствовало о признании заслуг молодого ученого в области исследования эндокринных аномалий. Опираясь прежде всего на открытия Э. Штейнаха, но апеллируя и к сексологическим исследованиям М. Хиршфельда и к его поддержке эндокринной гипотезы, М.Я. Серейский занял в своей статье непреклонную позицию в пользу биологической и конституциональной этиологии однополого влечения. Он резко отрицательно отозвался о психопатологических теориях однополого влечения и законодательном запрете гомосексуальных актов, расценив их как устаревшие. В статье 1930 года на ту же тему в «Большой советской энциклопедии» М.Я. Серейский связал эндокринную гипотезу с одобрением «борьбы [М. Хиршфельда] за отмену закона против гомосексуализма в Германии» и выразил уверенность, что «наше общество рядом профилактических и оздоровительных мер создает все необходимые условия к тому, чтобы жизненные столкновения гомосексуалистов [с обществом] были возможно безболезненнее и чтобы отчужденность, свойственная им, рассосалась в новом коллективе» 62. Как дань времени следует расценивать добавление редакцией в статью «этнографического очерка» Петра Федоровича Преображенского (1894—1941) о «гомосексуальной любви» в среде «т<���ак> наз<���ываемых> малокультурных народов» 63. В культурах малых народов Крайнего Севера (чукчи, коряки и камчадалы) или в советских «азиатских» (подразумевались исламские) культурах истоки гомосексуальности носят по большей части социальный, а не биологический характер. На обширной территории Советского Союза встречались образчики секс-гендерного диссидентства, соответствующие обоим выделяемым европейцами «генезисам» — медицинскому, присущему «цивилизованным» обществам (где гомосексуалы составляют меньшинство), и антропологическому, относимому к «примитивным» культурам (где гомосексуальность широко распространена).
Статьи М.Я. Серейского были вершиной айсберга. Его эксцентричная поддержка гормональной теории и политики эмансипации являлась порождением иллюзий на очередном витке истории. Возникнув в атмосфере утопического энтузиазма, направленного на изменение общества и реализацию фантастических проектов, идеи М.Я. Серейского не были чужды взглядам научных руководителей Народного комиссариата здравоохранения. Утопические мечтатели не принимали во внимание негативные прогнозы сторонников психопатологической модели половой перверсии и вынашивали планы социального переустройства, пусть ограниченного гендерными и культурными соображениями, для советского «трансвестита».
Утопия без «социальных аномалий»
Подобно многим проектам той эпохи, мечтания о социально жизнеспособном трансвестите были преданы забвению в связи с тем, что безудержный оптимизм первой пятилетки сменился суровым прагматизмом. Достижение заявленных в плане фантастических целей потребовало сосредоточения ресурсов на узких направлениях. На науку, субсидируемую государством, были возложены соответствующие ожидания. С началом атаки марксистов на беспартийных ученых наука оказалась в центре пристального политического внимания. Последствия такого, порой неявно выраженного, поворота к нарочитому прагматизму в отношении «трансвеститов» («гомосексуалистов») представляются очевидными. И всё же кампания против «биологизирования» (от популярного в то время глагола «биологизировать») в психиатрии и криминологии и история борьбы с так называемыми «социальными аномалиями» в эпоху первой пятилетки создают почву для понимания событий 1933—1934 годов.
О прагматическом повороте в сфере народного здравоохранения свидетельствовали смена руководства и реорганизация системы медицинского обслуживания. 13 декабря 1929 года ЦК ВКП(б) постановил реорганизовать Комиссариат здравоохранения, обязав его сконцентрироваться на нуждах промышленного пролетариата и колхозного крестьянства. Харизматичный видавший виды большевик Н.А. Семашко, народный комиссар здравоохранения с 1918 года, в 1930 году был заменен по до сих пор не выясненной причине Михаилом Федоровичем Владимирским (1874—1951), также ленинцем старой закваски и профессиональным врачом. Вероятно, благодаря своему послужному списку — в 1920-е годы служил в Комиссариате внутренних дел РСФСР и возглавлял Коммунистическую партию Украины — он представлялся более благонадежным 64. Последовали проверки и системная перестройка, психиатров также не миновали перемены. Постановление Рабоче-крестьянской инспекции от 26 октября 1931 года отметило некоторые недостатки в психиатрическом обеспечении, в том числе ограниченную сеть и низкий уровень больничного обслуживания и невысокую квалификацию персонала; недостаточное применение «трудовой терапии»; излишнее число госпитализированных больных, наблюдение за которыми вполне можно было бы осуществлять в амбулаторных условиях. Комиссариату были спущены директивы придать лечению трудовой характер, уделяя больше внимания «рабочим ведущих отраслей промышленности» и развитию трудовых колоний и мастерских в психиатрических заведениях 65. Упор на труд как метод лечения был предопределен первой пятилеткой. Нацеленность исследований и лечения на «производительные» слои населения свидетельствовала о жесткой фильтрации приоритетов сквозь сито классовых интересов. Расходуя весьма скромные средства на поддержание психического здоровья народа, власти надеялись на максимальную отдачу в другом — производительности труда. Ученый медицинский совет комиссариата распустил подкомитеты, не отвечавшие большевистским приоритетам. Например, отсутствует информация о том, что когда-либо собиралась Межведомственная комиссия по «трансвеститам», к 1933 году прекратила существование «невро-психиатрическая комиссия» Ученого медицинского совета Комиссариата здравоохранения (предложившая сформировать Межведомственную комиссию) 66.
Направления исследовательских работ были соответствующим образом пересмотрены. Врачи сосредоточились на проблемах основной психиатрии (шизофрении и нарушениях, обусловленных известными биологическими причинами) и зондировали возможности малой психиатрии (неврозы и проблемы приспособь ления к жизни) по повышению трудовых показателей городского рабочего. Исследование аномальной личности перестало быть делом случая и проводилось в плановом порядке, отражавшем потребности рабочих и крестьян 67. Половая аномалия как самостоятельная проблема исчезла из советской психиатрической литературы в 1930-х годах. На страницы специальных изданий она возвращалась лить в качестве симптома в контексте серьезного психического заболевания, душевного расстройства или утраты трудоспособности 68. Еще более значительное падение наблюдалось в эпоху первой пятилетки в исследованиях, касавшихся сексуальности, а также в социальной гигиене, половом просвещении и евгенике 69.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: