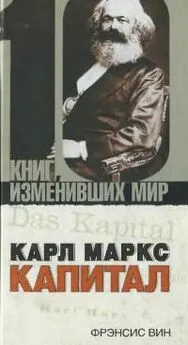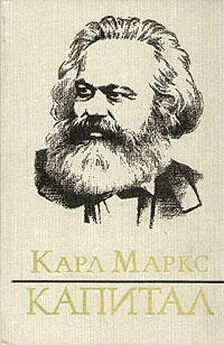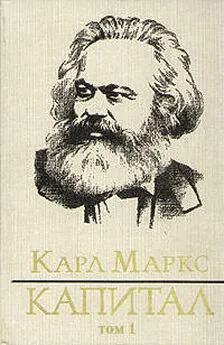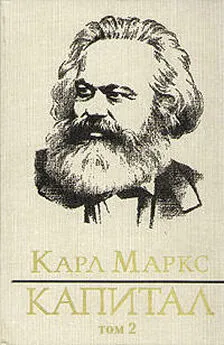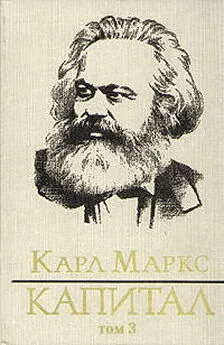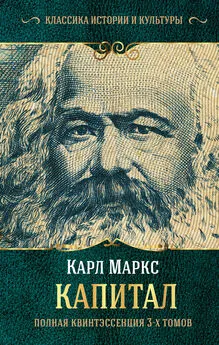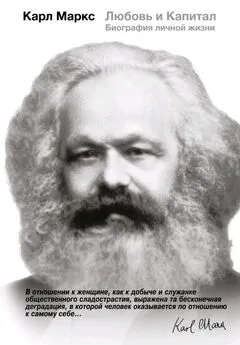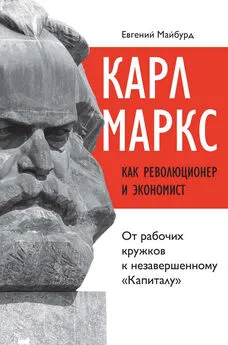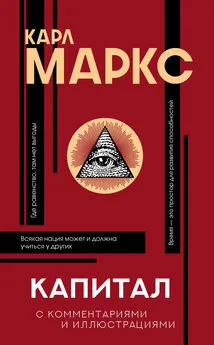Фрэнсис Вин - Карл Маркс: Капитал
- Название:Карл Маркс: Капитал
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ МОСКВА
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9713-9406-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фрэнсис Вин - Карл Маркс: Капитал краткое содержание
Книга, которая произвела настоящий переворот в экономической науке XIX века.
Книга, на которую опирались множество революционеров и реформаторов.
Однако много ли нам известно о «Капитале» как таковом — основополагающем социально-экономическом труде, не вырванном из контекста своего времени?
Почему на тезисы «Капитала» с равным успехом опираются и радикалы, и либералы, и консерваторы?
И, наконец, имеет ли «Капитал* Маркса хоть какое-то отношение к постулатам марксизма?
Вот лишь немногие из вопросов, на которые отвечает в своей книге известный историк и биограф Фрэнсис Вин.
Карл Маркс: Капитал - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
До Кейнса большинство экономистов рассматривали случайные кризисы капитализма как незначительные отклонения. Он же увидел в них неизбежный ритм нестабильной системы — так же, как и Маркс. Однако Кейнс отвергал Маркса, считая его оригиналом, вышедшим «из преисподней экономической мысли, чье учение было непоследовательным, устарелым, неверным с научной точки зрения, не имеющим ни значения, ни применения в современном мире». Горячность в этом осуждении Маркса удивительна и имеет сходство с тем, как сам Маркс критиковал классических экономистов, и с критикой Кейнса их неоклассических последователей. Как писала Джоан Робинсон в 1948 году:
И у того, и у другого безработица играет важную роль. Оба видят капитализм несущим внутри самого себя семена собственной гибели. На противоположной стороне, по сравнению с отношением к теории равновесия, системы Маркса и Кейнса совпадают, и теперь в первый раз существует достаточно много общего между марксистскими и академическими экономистами, чтобы сделать дискуссию возможной. Но, несмотря на это, Маркс все еще недостаточно изучен английскими экономистами.
Некоторых, без сомнения, отпугивала стилистическая размытость его работы. Хотя сама Робинсон думала, что теория Маркса о кризисах во II томе «Капитала» имеет близкое сходство с Кейнсом, она призналась, что «возможно, преувеличила сходство. Последние два тома «Капитала»… довольно непонятны, и их можно интерпретировать многими способами. Воды мутные, и возможно, что каждый, пытающийся заглянуть в них, увидит просто свое собственное лицо».
Но принципиальная причина пренебрежения этой связью между Кейнсом и Марксом — как, впрочем, и пренебрежение изучением Маркса, — лежала, возможно, в политической плоскости. Сам Кейнс был либералом, а не социалистом, и гордо заявлял: «В случае классовой войны я окажусь на стороне образованной буржуазии». Кейнсианство стало новой традицией для западных экономистов и политиков в середине XX столетия — именно в то время, когда холодная война сделала имя Маркса синонимом врага. Немногие марксисты желали быть связанными такой ассоциацией.
Исключением являлся австриец по происхождению Иосиф Шумпетер. У капитализма не было более рьяного поборника, нем Шумпетер, который оставался героем для многих американских предпринимателей, хотя его известная работа «Капитализм, социализм и демократия» (1942) начинается с оценки успехов Маркса (длиною 54 страницы), которая настолько же неожиданно великодушна, насколько собственная дань Маркса буржуазии в «Манифесте Коммунистической партии». Как пророк, признает Шумпетер, Маркс страдал «неверным видением и ошибочным методом расчета», особенно в предсказании усиления обнищания рабочих. Однако «Маркс лучше других видел процесс изменения в промышленности и осознал его кардинальную важность более полно, чем любой другой экономист его времени». Поэтому Маркс являлся «первым экономистом высокого ранга, который мог видеть и систематически демонстрировать то, как экономическую теорию можно превратить в историческое исследование и как историческое повествование можно превратить в «историю разумную». Через несколько страниц он ставит вопрос «Выживет ли капитализм?» и отвечает: «Нет, не думаю, что выживет». Это может показаться странным комментарием в книге, которая предназначена для твердой защиты духа предпринимательства, и, конечно, Шумпетер — в отличие от Маркса — не получает от этого удовольствия. «Если доктор предсказывает пациенту близкую смерть, то это не значит, что он этого желает». Его идеей было то, что новшество капитализма — новые продукты, новые методы их производства — было силой «творческого разрушения», которая в конечном итоге могла стать успешно действующей и поэтому слишком деструктивной ради своего же блага.
В последнее десятилетие XX столетия пророческие предостережения как Шумпетера, так и Маркса, казалось, были опровергнуты. После предсмертной агонии коммунизма либеральный капитализм в американском стиле может править беспрепятственно — возможно, даже вечно. «То, что мы сейчас видим, — провозглашал Фрэнсис Фукуяма в 1989 году, — это не просто конец Холодной войны или период послевоенной истории, но это — конец истории как таковой, конечная точка идеологической эволюции человечества». Однако история вскоре мстительно повторилась. К августу 1998 года происходит экономический крах в России, валютный обвал в Азии и паника на рынках по всему миру, что побуждает «Файненшл тайме» задаться вопросом: «А не совершили ли мы переход от триумфа глобального капитализма к его кризису всего лишь за десять лет?» Статья называлась «Возвращаясь к «Капиталу».
Даже те, кто много получал от этой системы, начали задаваться вопросом о ее жизнестойкости. Джордж Сорос, миллиардер, биржевой делец, которого винили в неудачах как в Азии, так и в России, предупреждал в работе «Кризис глобального капитализма: открытое общество в опасности» (1998), что со стадным инстинктом капиталовладельцев нужно уметь управляться прежде, чем они растопчут всех на своем пути:
Сама по себе капиталистическая система не выказывает никаких тенденций к равновесию. Владельцы капитала стремятся увеличить свои доходы. Предоставленные самим себе, они будут продолжать накапливать капитал, пока ситуация не выйдет из равновесия. 150 лет назад Маркс и Энгельс дали очень хороший анализ капиталистической системы, лучше, чем классических экономисты… Главная причина, почему их мрачные предсказания не сбылись, заключалась в противодействии политическому вмешательству в демократических странах. К сожалению, сейчас снова есть опасность сделать неправильные выводы из уроков истории. В этот раз опасность исходит не от коммунизма, но от рыночного фундаментализма.
Во время холодной войны, когда коммунисты благоговели перед работой Маркса, как перед священным писанием — совершенным и непогрешимым, — те, которые находились на другой стороне, поносили автора как агента дьявола. С падением берлинской стены он, однако, получил новых почитателей в совсем невероятных местах. «Нам не стоит спешить поздравлять себя с поражением Маркса и марксизма, — писал экономист правого крыла Джуди Ванниски в 1994 году. — Наше мировое сообщество намного более подвижно, чем было вего времена, но процесс обновления не гарантирован. Силы реакции, которые он правильно обозначил, должны быть побеждены каждым приходящим поколением, — и эта огромная задача сейчас стоит перед нами». Ванниски, который придумал выражение «экономика предложения», цитировал «Капитал» как главный источник вдохновения для своей теории, что производство, а не спрос было ключевым для процветания. Как приверженец свободной торговли и золотого стандарта, враг бюрократии и поклонник духа Клондайка, он считал, что Маркс был «одним из титанов классической теории и практики», — и также пророком гениев. Он подошел чрезвычайно близко к истине в своем предположении, что капитализм сеет семена своей собственной гибели. «То есть, если капитализм требует безжалостной конкурентной борьбы, а капиталисты делают все, что могут, чтобы уничтожить конкуренцию, то мы имеем систему, которая по сути своей нежизнеспособна — как те животные, которые пожирают своих детенышей».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: