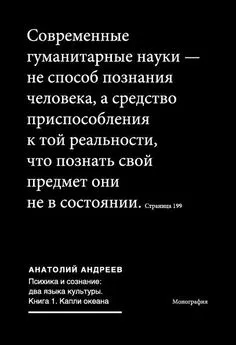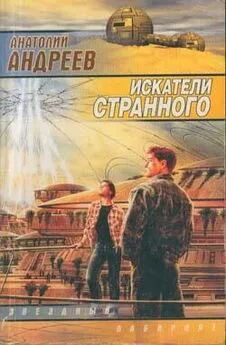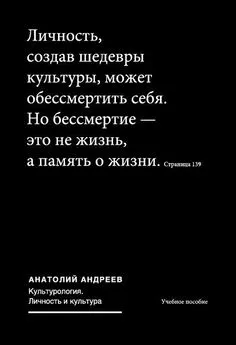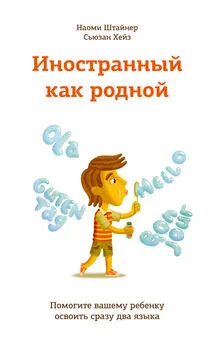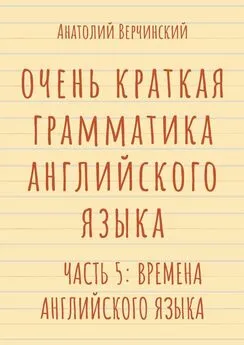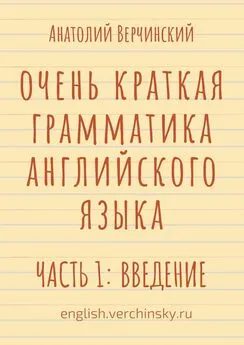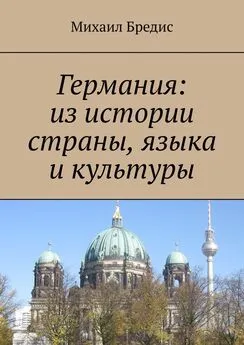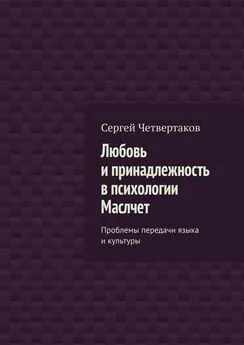Анатолий Андреев - Психика и сознание: два языка культуры. Книга 1. Капли океана
- Название:Психика и сознание: два языка культуры. Книга 1. Капли океана
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2000
- Город:Минск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Андреев - Психика и сознание: два языка культуры. Книга 1. Капли океана краткое содержание
Во всяком случае, подобные вещи никогда еще не были в его власти. Он может лишь очень этого желать. Но получится ли, засверкает ли капля – об этом судить читателю. Капли безмерные и сверкающие – это установка, а не самооценка творческой продукции.
Психика и сознание: два языка культуры. Книга 1. Капли океана - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Те же сферы духа, где ум научился различать мифологемы и разоблачать их, становятся опасно уязвимы с точки зрения общественного, насквозь идеологизированного сознания.
Наиболее беззащитна в культуре – философия.
Наиболее защищена – религия.
Это легко объяснить, но с этим невозможно согласиться человеку, устойчивому к идеологическим инфекциям. Идеологии выражают потребности – в этом и только в этом заключается их чудодейственная жизненная сила. Философия же видит сущность идеологии и вскрывает механизмы ее порождения и функционирования. Может ли идеолог-фанатик смириться с покушением на миражи, создаваемыми во имя жизни?
«Масса», «толпа» – это мировидение и терминология наивных романтиков, с энтузиазмом клеймивших духовную чернь». Им страшно было помыслить, что все человечество – это всего лишь толпа, способная существовать исключительно в идеологическом пространстве. Философию терпят до тех пор, пока она не оторвалась от идеологии, обслуживает идеологию, является формой идеологии. Идеология, поданная как «философия», – это высшая санкция культуры. Как только философия становится философией и противопоставляет себя идеологии – она превращается в занятие для чудаков-дураков-сумасшедших. Во вредное занятие. Тут уж нелепо рассчитывать на поддержку цивилизованного общества.
Становиться все более и более культурным – значит развивать сознание, абстрактно-логическое мышление. Ни самая утонченная религиозность, ни безмерно развитая художественная интуиция не продвигают человека в культурном смысле. Они не избавляют от темноты, а именно затемняют сознание. Прояснять сознание можно одним способом: учиться мыслить.
В комплекс жизненно важных потребностей входит и потребность в смерти. Гибель одного индивидуума – модель апокалипсиса. Возможно, ничто так не способствовало рождению философии, как потребность найти защиту от смерти. И нашли: в философии (религия – это иллюзорная победа над смертью, путем превращения ее в элемент вечной жизни, продолженной в иных мирах, чего, конечно, не существует).
Философии смерть оказалась не страшна. Почему?
Потому что философия – и это поняли уже древние греки – сама подвергает все аналитическому расчленению, т. е. предает смерти же, не оставляя шансов подпитывать жизнь иллюзиями. Философия противопоставляет смерти не страх и стихийную жизненную силу (наивные способы «запугать», отодвинуть смерть и продолжить, спасти жизнь), а бесстрастное понимание, познание. То, что способно бояться, не вошло в состав философии, а если вошло, то такая «философия» превращается в метафору.
Анализ – антипод жизни, поэтому он же в известном смысле есть форма смерти. Вот почему заниматься всерьез философией и любить это – невозможно (случаи явной патологии я рассматриваю как аргумент в пользу данного тезиса). Можно заниматься историей философии, философскими аспектами различных сфер общественного сознания. Но «заниматься» философией как таковой (не трепаться, а жить, существовать в режиме мудрости) – не представляется возможным.
Возражений, разумеется, последует множество. Проблема, однако, в том, что часто выдаваемое за философию и философов на самом деле не является таковым. Практически всегда мы имеем дело с идеологией, подаваемой как философия. Феномен философии для массового сознания такой же миф, как и все остальное в поп-культуре.
Философов – единицы, и, как правило, им, оберегающим жизнь от философии, нечего сказать людям. Сказать можно разве что во имя истины; но во имя истины можно и помолчать. Результат – не меняется.
Тот же, кто активно рассуждает, одаривая людей новыми рецептами счастья, – либо идеолог-шарлатан, либо интеллектуальный молокосос. Он сражается со смертью. Он еще не понимает, что рецептов спасения, по большому счету, нет. Как нет, впрочем, и абсолютной смерти.
Любой гимн жизни – это гимн силам души, не рассуждающей витальной мощи, непобедимой стихии инстинктов. Молодость, весна, сила природы – становятся источниками глупостей, которые мы поэтизируем, всячески приветствуем, которым умиляемся. Поэтому «поэзия должна быть глуповата», искусство, религия – все то, что обслуживает потребность души – должно быть глуповато, ибо жизнь и глупость – две вещи нераздельные.
Жизнь зарождалась помимо интеллекта, развивалась не по его указке. И теперь, когда ум «понял» жизнь, в самой жизни мало что изменилось. Поэтому самое большое наказание жизнелюбивому существу – это интеллект.
Но не все так просто. Жизнь не случайно породила своего антипода-могильщика. Мудреем-то мы к старости, к смерти. Чем меньше в нас клокочет жизни – тем более становимся мы умудренными. Однако в пору зрелости ум, слуга вечности, оттеняет глупость жизни, придает ей космическое самосознание. Действительным дитем природы, как ни странно, ощущают себя умные люди. Так интеллект повенчан с жизнью, он не только не мешает ей, но вносит новые, удивительно «терпкие» краски в палитру глупости-жизни.
Если же ум губит жизнь или противостоит ей, не находя точек соприкосновения, – это еще не основание для того, чтобы вынести «холодному» уму приговор, который бы узаконивал отлучение его от неконтролируемой жизненной стихии. Противостояние психической энергетике еще не превращает ум во врага жизни. Все зависит от того, как будет интеллект нести свою опасную службу. Для иных интеллектуальная защита является единственным спасением.
Да, не всякий ум уживется с жизнью. Только философский, мудрый ум, не переставая быть самим собой, может в то же время не мешать глупой жизни, но даже поощрять ее.
Прожить жизнь «с умом» – это высшая задача, стоящая перед человеком. Все остальное – или приспособительная психологическая «шелуха» (которую, впрочем, можно назвать просто жизнелюбием), или жалкая маскировка эрудиции под интеллект, эксплуатирующая лозунг: знание – сила.
Ум специализированный , используемый в практической деятельности, в науке, отличается от ума универсального , востребованного в полном объеме только лишь в философии, тем, что задачи первого и второго несопоставимы; следовательно, несопоставима и их личностная значимость.
Специализированный ум, доведенный до совершенства, делает человека гением; а интеллектуальный гений – это всего лишь способность оперировать специальной информацией, способность обнаруживать и выстраивать взаимоотношения структурных элементов в системах. Это ум – системный. Причем, закономерности одной системы не распространяются на все остальные, аналогии здесь весьма условны.
Отсюда парадоксальный результат: чем более разбирается специализированный ум в своей узкой сфере, чем больше у человека уходит на это времени и сил – тем менее он представляет из себя что-либо достойное внимания как личность.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: