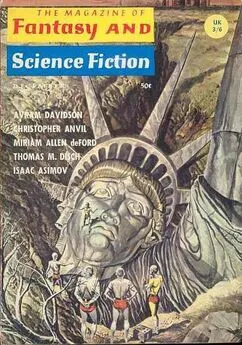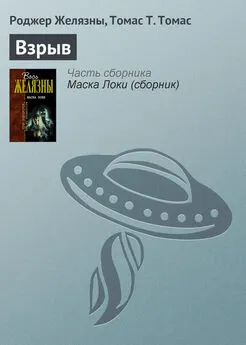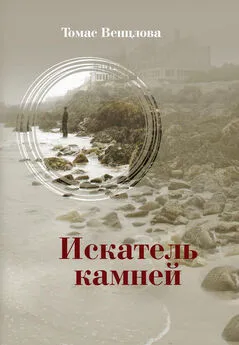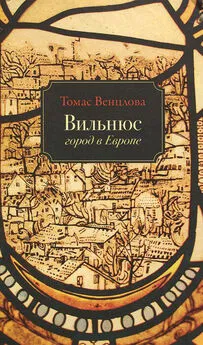Доната Митайте - Томас Венцлова
- Название:Томас Венцлова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Новое издательство»6e73c5a9-7e97-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2005
- Город:М.:
- ISBN:5-98379-027-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Доната Митайте - Томас Венцлова краткое содержание
Книга Донаты Митайте – первая научная биография Томаса Венцловы – знаменитого литовского поэта мировой величины, блестящего переводчика, литературоведа и профессора Йельского университета, мыслителя и диссидента, лишенного в 1977 году советского гражданства, друга Иосифа Бродского и Чеслава Милоша. Книга дополнена уникальными фотографиями из частных архивов и подборкой интервью с друзьями Венцловы – Натальей Горбаневской, Чеславом Милошем и др.
Томас Венцлова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Свой «вильнюсский текст» Венцлова начал еще в самой первой самиздатской книжечке Pontos Axenos, в которой Вильнюс назван «единственным городом». В одном из стихотворений 1965 года поэт пишет: «Мой город – высок и мертв». Эти строчки, как и многие другие, обусловлены тем ощущением вильнюсской реальности, которое сам поэт определил в диалоге с Милошем, говоря о Вильнюсе: «Для меня он никогда нормальностью не был. В детстве я очень сильно, хоть и неясно, ощущал, что мир вывихнут, опрокинут, искалечен. <���…> В моем Вильнюсе существовали только анклавы, дающие некоторое представление о том, исчезнувшем, нормальном мире» [388]. В упомянутом стихотворении город «ценой души <���…> покупает кислород». Эта ненормальность была обусловлена тоталитаризмом.
В строках «Там истлевал, шурша во мгле, тростник, / и сталь мерцала, заткнута за пояс, / и камень к человеку жил впритык, / и вспыхивал бензин, и мчался поезд» [389]стихотворения «Nel mezzo del camin di nostra vita» Венцлова пытался напомнить о погибших – русском поэте и переводчике Константине Богатыреве, убитом в Москве у дверей своей квартиры, языковеде Йонасе Казлаускасе, чей труп нашли в реке Нярис, погибшем под колесами поезда поэте Миндаугасе Томонисе (видимо, все эти смерти – дело рук КГБ), о Ромасе Каланте, совершившем самосожжение в знак протеста против оккупации Литвы [390]. Слова «сталь мерцала, заткнута за пояс» можно прочесть и как утверждение, что город не побежден, поскольку сталь, железо в литовской поэзии обычно ассоциируется с бунтом, восстанием, борьбой. Появление своеобразного города-призрака, безлюдного и безжизненного, в прощальной «Оде городу» тоже обусловлено ненормальностью тогдашней жизни:
И над хлябью и твердью
в едкой соли огни
кристаллической смертью
проплывают. Одни
фонари да машины,
да впотьмах, где река,
сонных сосен вершины
шевельнутся слегка. [391]
В литовском подлиннике последние четыре строчки этой строфы звучат так: «Плывут пустые машины, / Плывет толпа мостов, / И неживой сосновый бор / Делает шаг во сне». Быть может, эту картину подсознательно сформировали яркие впечатления детства, проведенного в Вильнюсе (в то время «ненормальном»): «В самый первый день после школы я заблудился в руинах; это мучительное беспомощное блуждание в поисках дома, которое продолжалось добрых четыре часа (некого было спросить, потому что людей повстречал немного, к тому же никто не говорил по-литовски), стало для меня чем-то вроде личного символа». [392]
Ощущение лабиринта повторялось наверняка не один раз, потому что в дневнике 1958 года оно снова красноречиво воссоздано уже на основе новых впечатлений ночного Вильнюса: «Кошмарное путешествие по вильнюсскому гетто, по улицам и дворам, достойным Голема. В полночь улица Тимо со слепыми, без стекол, окнами, поднимающаяся несколькими ярусами в угрюмую гору, потом окрестности Августинцев, переулок Стиклю, деформированное убийствами и падалью пространство, наконец, созданный в духе Кафки двор неподалеку от музея, где попадаешь словно в скрещение тысячи глаз: разрушенные измерения у новых, не менее жестоких строек улицы Музеяус, перекрестки и сводчатые ворота – непобедимый, во все стороны один и тот же лабиринт, из которого под конец мы бежали сломя голову. Истерический фосфоресцирующий или розовый свет, свет чумы, иногда прорывы в другие планы, словно моментальные метафоры. Навеять такие впечатления может далеко не каждый – быть может, ни один – город на свете: здесь важно, что он запущенный, распадающийся, полусгнивший, словно потонувший корабль» [393]. Образу города-корабля уже много веков, но то, что Вильнюс в «Оде городу» перенесен к морю, имеет глубокий символический смысл. Как писал один из, пожалуй, важнейших учителей Томаса Венцловы Юрий Михайлович Лотман, вокруг города, который находится на окраине культурного пространства, у моря, «будут концентрироваться эсхатологические мифы, предсказания гибели, идея обреченности и торжества стихий будет неотделима от этого цикла городской мифологии» [394]. Потому жизнь Вильнюса – корабля, плывущего по воле волн средь грозных морских валов, – кажется очень хрупкой; город покинут на милость бога ветров, как бы сдан под его покровительство:
Что там? Горный отвес ли,
дождь стеною пошел?
Да хранит тебя если
не Господь, так Эол. [395]
Быть может, лишь в поздних стихотворениях Вильнюс Томаса Венцловы становится нормальным, в нем оживает жизнь, появляются люди, он открыт течению истории (видны не только древние атланты, но и новые рекламные щиты: ломбард, Кодак, Тавола, Элвора). Однако человек успел сродниться и с тем, жившим в смертной тени, городом, потому расстаться, погасить, «как фитиль каменистые улочки» («Ода городу»), значило погасить «и душу, / если душа жива».
Частное пространство человеческой жизни в поэзии Томаса Венцловы, как правило, квартира ли комната. Если мы попробуем составить каталог находящихся там вещей, то мы увидим, что в квартире всегда есть телефон, радиоприемник (связь с внешним миром для поэта очень важна), книжные полки, стол, лампа (иногда свеча), часы, картины. Человека в стихах Венцловы мучает постоянно подчеркиваемая замкнутость тоталитарного мира, но на него давит и любое другое закрытое пространство, даже комната, приобретающая черты гроба или клетки: «И в ожиданьи Бога убывают / тела. В мотеле. В комнате. В гробу» [396](в подлиннике: «Так помнящего Бога ждут тела / в узком гробу, в комнате мотеля»). Или: «Но смерть не здесь. / Смерть рядом. Рукописи теребя, / рвет лист календаря привычным жестом, / у зеркала глядится в отраженье – / в тебя» [397](в подлиннике смерть «роется в комнатной клетке»). Упоминаемое в стихах Венцловы зеркало почти всегда связано со смертью.
В творчестве поэта есть дом (его прототип – усадьба дедушки в Верхней Фреде), чья отличительная черта не замкнутость, а именно открытость: «Пространства здесь было всегда / больше, чем детству положено» [398]. Даже зеркало (пусть громоздкое, неподвижное, «каменеющее») в доме детства скорее копит и хранит впечатления, напоминая полные жизни зеркала в стихах Пастернака, а не связывает со сферой смерти:
…На первом еще этаже
зеркало стынет массивное, иней вбирая
дальней грозы, крону сливы, флакон
из-под духов с чуть придушенным ароматом.
В стихотворении «Воскресение из мертвых» в узкое, словно гроб, пространство комнаты мотеля врывается, «от кроны до ствола озаренное» молнией дерево, «придя из сада мертвого, тропу / и дом в руинах за морем покинув». Жизнь дерева (вернее, его воскресение из мертвых) обусловлена памятью и языком («но дерево, покуда / я говорю, живет в моих словах»). Это своеобразная модификация темы ностальгии, выражающая скорее не традиционную тоску по потерянному раю, а близкую Венцлове философию языка, выраженную словами У. Х. Одена, некогда потрясшими Бродского: «Time…worships language» [399]. Венцлова из города творит язык: «Ты мог бы его пересечь – днем ли, при звездах – / вслепую, словарь человечий взрастив из властных / его ветров, взрастив виноградник гласных / из проливного дождя и арочного алюмната» [400]. Кстати, город ассоциируется с языком с самого первого самиздатского сборника «Pontos Axenos», в одном из стихотворений которого говорится: «И расслышу холмов ассонансы / Городскую любимую речь». [401]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
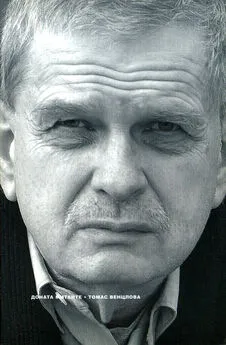
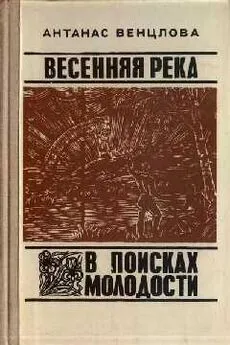
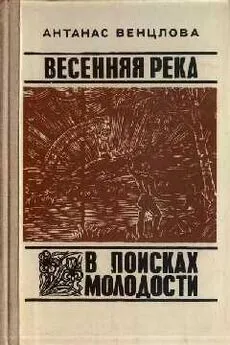
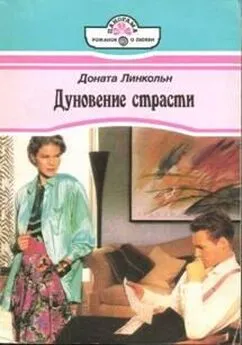
![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/441343/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz.webp)