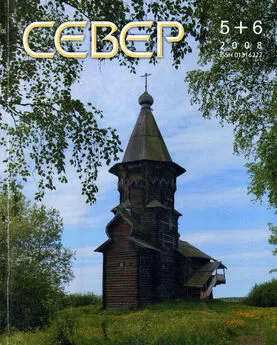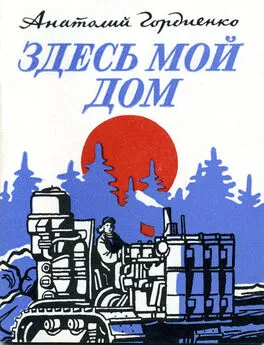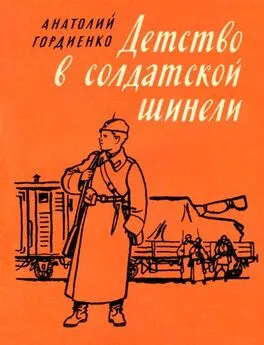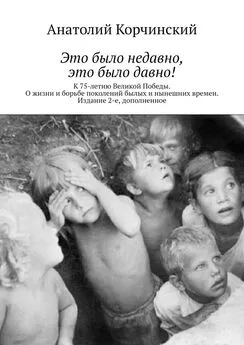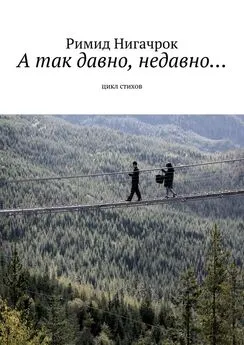Анатолий Гордиенко - Давно и недавно
- Название:Давно и недавно
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Острова
- Год:2007
- Город:Петрозаводск
- ISBN:978-5-98686-011-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Гордиенко - Давно и недавно краткое содержание
1940 гг.
Книга „Давно и недавно“
это воспоминания о людях, с которыми был знаком автор, об интересных событиях нашей страны и Карелии. Среди героев знаменитые писатели и поэты К. Симонов, Л. Леонов, Б. Пастернак, Н. Клюев, кинодокументалист Р. Кармен, певец Н. Гяуров… Другие герои книги менее известны, но их судьбы и биографии будут интересны читателям. Участники Великой Отечественной войны, известные и рядовые, особо дороги автору, и он рассказывает о них в заключительной части книги.
Новая книга адресована самому широкому кругу читателей, которых интересуют литература, культура, кино, искусство, история нашей страны.»
(Электронная версия книги содержит много фотографий из личного архива автора, которые не были включены в бумажный оригинал.)
Давно и недавно - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И так она меня шпыняла несколько раз. В прошлом году 9 мая снова мы в гостях у тестя. Тесть, хоть и распарился от водочки, а пиджак с медалями не снимает. Опять всё, как тогда. Выпили, разговорились, кто во что горазд. Тесть рассказал, как «языка» привёл, старший брат Верочки — как под Севастополем на немецкие танки шли с гранатами в руках, тельняшку рванув на груди. Дядя Петя выпил своего любимого пуншика и запел: «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех». Он там воевал, в Болгарии.
Верочка меня толкает. Я налил водки полный фужер, выпил, а когда хлебец стал нюхать, вижу — по телевизору кино идёт про тот знаменитый парад. Как раз знамёна гитлеровские понесли. Я тут и брякнул: «Это мои дружки. А я вот за тем высоким иду. Вот только что руки мои мелькнули с немецким флагом».
Тут все и заткнулись. Дядя Петя петь перестал, а тёща курицей подавилась. Все стали кричать: «Так что же ты, мил человек, молчал до сих пор?» Не велено сказывать, отвечаю, подписку дал молчать. Дело секретное. Больше ничего сообщить не могу. Вот когда пятьдесят лет будет параду, тогда, может, расскажу всё, как было.
Пошли домой. Верочка ко мне жмётся, в ногу норовит ступать, чего раньше никак не хотела делать. С тех пор и началось. Куда ни пойдём в гости, надо — не надо, а Верочка и вставит в разговор: «А мой-то Ванюша знамёна немецкие бросал к мавзолею!»
Так и пошла молва, так и вы, видимо, от кого-то услыхали. Вот и весь сказ, товарищ корреспондент. Всё сказал, как на духу. Что делать-то будете со мной? Можете не сказывать моему парторгу? Вот вы, я вижу, меня понимаете. А парторг… К нему вот так по-братски не подступишься с разговором.
Воцарилось долгое молчание. Во мне боролись какие-то разные силы. Конечно, я злился, что в фильме не будет такого «вкусного» конечного эпизода, злился, что потерял время на этот долгий бесполезный разговор. С другой стороны, мне понравился этот добрый, простой человек, я порадовался его складной речи, его живому рассказу, его ожившим глазам, его обескураживающей искренности. Почему-то понравилось даже то, что он побаивался жены.
— Сделаем так, — сказал я. — Парторгу я объясню, что, действительно, вы дали подписку и чтоб он больше к вам с этим делом не приставал, не подступался. Верочке своей скажите, что у вас был разговор с официальным товарищем, что вас куда-то там вызывали и предупредили: поскольку у нас с ГДР сейчас очень дружеские, даже братские отношения, о немецких знамёнах в сей момент говорить не рекомендуется.
Иванов долго жал мне руку и обещал больше нигде и никогда не рассказывать, как он бросал эти злополучные знамёна вермахта, будь они трижды прокляты.
С того времени прошло уже почти тридцать лет. Я часто, даже очень часто вспоминаю этот эпизод, и мне становится как-то не по себе. Ну зачем я его остановил? Какое право имел? Можно, конечно, оправдываться, дескать, время было такое. Сейчас, через столько лет, думаю совсем иначе. Разве этот самый Иванов не имел права бросать немецкие штандарты, разве он не заслужил такой чести?
Именно он, Рус-Иван, рядовой Великой Отечественной, Иван Иванович Иванов, представитель самого главного рода войск, той самой серой от пыли и грязи пехтуры, прополз на брюхе, протопал от Сталинграда до Берлина. Именно таким, как он, надо было отдать это право. Им и только им поручить швырнуть наземь то, что считалось доблестью и честью хвалёного гитлеровского войска — шитые серебром и золотом куски бархата или там шёлка, штандарты из дорогих и недорогих металлов, придуманные лучшими геральдмейстерами фашистской Германии.
Пусть бы рассказывал и друзьям, и родственникам, и детям своим, пусть бы красавица Верочка продолжала гордиться мужем. Он же, Иванов, не придумал, не приписал себе геройский подвиг, будто он из винтовки, скажем, сбил немецкий самолёт или продырявил из сорокапятки двух «тигров», или привёл в штаб полка пленённого им немецкого полковника.
Он, по сути, своим языком, по-своему рассказывал о другом — о конце долгой, жесточайшей войны. О том, как в ней была поставлена последняя точка.
И всё-таки лучше не придумывать, а рассказывать только то, чему ты был свидетелем, в чём ты принимал участие…
Что нам стоит дом построить

Когда в 1967 году в Карельском книжном издательстве вышла моя книга «Минута жизни» о Герое Советского Союза Николае Ригачине, я стал получать много писем, благо тогда конверт с маркой стоил пять копеек. Писали красные следопыты, ветераны войны. Пионеры приглашали в школу, работники библиотек — на читательские конференции. Задавали уйму вопросов, но главный всегда был один и тот же — откуда мне известны подробности последнего боя Ригачина 21 января 1945 года там, в Германии, в Крайцбурге. После войны эти земли отошли к Польше, и город поляки переименовали в Ключборк.
Начну всё по порядку. Как-то случилось мне быть по журналистским делам в Заонежье. Домой, в Петрозаводск, собирался вернуться на попутном буксире, но у него испортился двигатель, и мы встали на ремонт в Великой Губе, что за Кижами.
На землю легла тёплая ночь. Я бродил по притихшему селу, сидел в чьей-то лодке у берега уснувшего озера и вдруг вспомнил, что именно здесь жил паренёк, закрывший своей грудью амбразуру немецкого пулемёта. И я словно увидал его — крепко сбитого, коренастого. Вот он спускается с удочками на плече к озеру, степенно, по-хозяйски садится в старую дедову лодку-кижанку. Мечтательные глаза, чистое юношеское лицо, упрямый подбородок. Хочет стать лётчиком, хотя работает сапожником.
С того дня Николай Ригачин вошёл в мою жизнь окончательно и бесповоротно, и я начал по крупицам собирать всё о нём. О детстве и юности рассказали сестра Наталья и брат Яков. Из военного архива в Подольске прислали наградной лист на присвоение звания Героя Советского Союза. Поразила и озадачила строка: «Призван в Красную Армию Мало-Висковским райвоенкоматом Кировоградской области УССР 22 марта 1944 года».
Как же так? Ведь Ригачин уходил на срочную службу из родного села, из Великой Губы ещё до войны.
Пишу письмо в Малую Виску и в архив Министерства обороны. Архив присылает мне адрес и фамилию командира 287-го стрелкового полка подполковника Ерёмина, именно он подписал первым представление на Ригачина: «Достоин присвоения звания Героя Советского Союза посмертно».
Вскоре пришло письмо из села Злынка Мало-Висковского района. Писала учительница Галина Савельевна Кухаревская. Она сообщала невероятное — в Злынке живут жена и дочь Ригачина! Далее писала о том, что Николай бежал из плена, и его, больного и умирающего, выходила колхозница Ульяна Рева. «Приезжайте в гости, всё расскажем, со всеми увидитесь».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
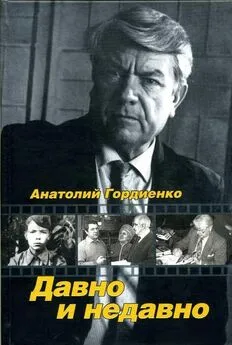
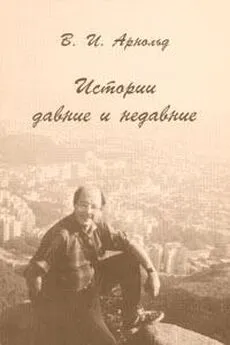
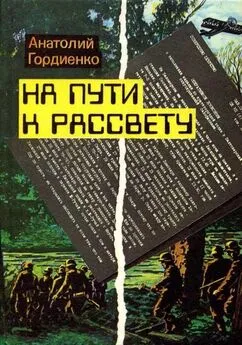
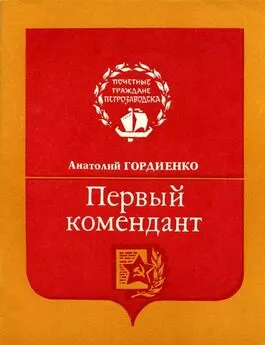
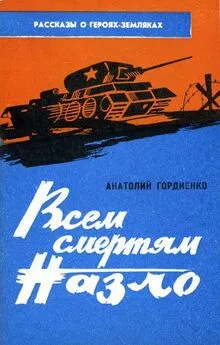
![Анатолий Гордиенко - Минута жизни [2-е изд., доп., 1986]](/books/1082331/anatolij-gordienko-minuta-zhizni-2.webp)