Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании
- Название:Десять лет в изгнании
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Крига
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98456-060-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании краткое содержание
Перевод снабжен подробными комментариями, в которых не только разъясняются упомянутые в тексте реалии, но и восстанавливаются источники сведений г-жи де Сталь о России и круг ее русских знакомств.
Книга переведена и откомментирована ведущим научным сотрудником ИВГИ РГГУ Верой Аркадьевной Мильчиной.
Десять лет в изгнании - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
358Эти размышления о пределах монархической власти предвосхищают известную в передаче г-жи де Сталь реплику российского императора о себе как о счастливой случайности (см. примеч. 771).
359Имеется в виду патриотическое движение за освобождение от французских завоевателей, достигшее своего апогея в 1813 г.; см. примеч. 832.
360Понятию соревнования, или рвения (émulation), как движущей силы общественного развития посвящена отдельная глава в ОЛ ( ч. 2, гл. 3), в которой г-жа де Сталь задается целью выяснить, «отчего при монархии покровительство унижало великодушных людей, ревнующих к совершенствованию разума», и по какой причине республика «может вдохновить их на небывалые свершения»: «Все люди с деспотическим характером, каковы бы ни были их убеждения, ненавидят людей мыслящих, и если власть имущие опираются на слепых фанатиков, самую большую опасность для них представляет человек, сохранивший способность свободного суждения. Тираны хорошо уживаются лишь с людьми ограниченного ума, которые смиряются или восстают только по команде повелителя». Такими тиранами могут быть и монархические, и революционные правители; напротив, республиканское правительство охотно прибегает к талантам людей просвещенных, а потому оно «более, чем любое другое, заинтересовано в том, чтобы возбуждать рвение сочинителей; ведь чем больше трудов оно вдохновит, тем в большем останется выигрыше. Немногие добиваются успеха, но все мечтают о нем, и, если известность обретает лишь тот, кто преуспел, пользу подчас приносит и тот, кто пробует свои силы в безвестности» (О литературе. С. 285–286, 293).
361Кадм (греч. миф.) — сын финикийского царя Агенора, посланный отцом на поиски своей сестры Европы, похищенной Зевсом; в том месте, где ему было указано оракулом основать город, Кадм убил дракона и засеял поле его зубами, из которых выросли вооруженные люди, вступившие в борьбу друг с другом; пятеро оставшихся в живых стали родоначальниками знатнейших фиванских родов. Убитый Кадмом дракон был сыном Ареса (бога нечестной войны); зубами того же дракона царь Колхиды Ээт велел Ясону (предводителю аргонавтов, отправившихся на борту корабля «Арго» за золотым руном) засеять поле, вспаханное на медноногих огнедышащих быках Ареса; из зубов стали вырастать могучие воины, однако колдовское зелье, переданное Ясону влюбленной в него дочерью Ээта волшебницей Медеей, сделало его на один день неуязвимым; воины начали сражаться друг с другом, а Ясон их перебил.
362Имеются в виду поражения прусской армии в кампании 1806 г., самым крупным из которых было проигранное сражение при Иене и Ауэрштедте 14 октября 1806 г.
363В ОГ Берлину посвящена отдельная глава (ч. 1, гл. 17), где Сталь, признавая красоту Берлина, ставит ему в упрек отсутствие памятников старины: «…на нашей старой земле всякой вещи необходимо прошлое. Берлин, как бы он ни был красив, не производит должного впечатления, потому что он — город совсем новый; в его облике не заметны ни отпечатки истории страны, ни следы характера ее обитателей […] Красивейшие дворцы Берлина выстроены из кирпича; тесаный камень здесь можно увидеть разве что в триумфальных арках. Столица Пруссии подобна самой Пруссии; возраст зданий и установлений здесь равняется возрасту человеческой жизни, и не более того, ибо созданы они исключительно руками человека» (DA. Т. 1. Р. 133). То же самое впечатление произвел на Сталь Петербург (см. наст, изд., с. 150), однако русской столице писательница это не ставит в вину — очевидно, по причине экзотичности увиденного, которая служила заменой древности. Другой упрек, предъявляемый Сталь Берлину и вообще Германии, особенно четко сформулирован в ее письме к г-же Неккер де Соссюр от 1 апреля 1804 г.: «Два общества, ученое и придворное, существуют совершенно раздельно одно от другого, вследствие чего ученые не умеют беседовать, а светские люди не умеют мыслить» (цит. по: DAE -1904. Р. 395).
364В ОГ в главе «Об иностранцах, желающих подражать французскому уму» (ч. 1, гл. 9) Сталь не могла позволить себе выразиться столь определенно (так как в пору написания этой книги вся Германия в той или иной степени зависела от французского императора), однако желание немцев во что бы то ни стало подражать французскому салонному остроумию оценивается здесь весьма критически: «Истинная сила страны заключается в ее природном характере; подражание иностранцам, в чем бы оно ни выражалось, выдает недостаток патриотизма […] За неимением иных товаров мы сбываем иностранцам груз мадригалов, каламбуров и водевилей, однако сами французы ценят в иностранных литературах лишь местные красоты. В подражании нет природы, нет жизни» (DA. Т. 1. Р. 97).
365Сталь имеет в виду «французскую партию» в прусском обществе, члены которой, видя во Французской революции триумф идей Просвещения, желали такого же обновления, тех же реформ и для Пруссии; самые ярые сторонники сближения Пруссии с Францией, такие как публицист Пауль Фердинанд Фридрих Бухгольц (1767–1843), прославлявший в лице Наполеона «героя нашего времени», или К.-Д. Фосс, автор не менее восторженной по отношению к заглавному герою поэмы «Век Наполеона» (1811), не отказались от своих идей и после разгрома прусской армии при Иене; более сложную позицию занял в это время философ Фихте, который не скрывал своих «якобинских» симпатий и высоко оценивал реформы, осуществленные во Франции Бонапартом, считая их необходимыми и для его родины, но в то же время не мог не видеть в Наполеоне после Иены завоевателя и угнетателя прусской нации (эти идеи выразились в его «Речах к немецкой нации», произнесенных в 1807–1808 гг. в Берлине).
366Принц Людвиг-Фердинанд Прусский (1772–1806), племянник Фридриха II, приходившийся, следовательно, дядей своему ровеснику, прусскому королю Фридриху-Вильгельму III, погиб 10 октября 1806 г. в сражении при Заальфельде от руки вахмистра 10-го гусарского полка Генде. Французский гусар безуспешно предлагал принцу сдаться, но, получив в ответ удар саблей, ответил другим ударом, который оказался смертельным (см.: DAE-1904. Р. 111–112). В финале главы «Берлин» книги ОГ (ч. 1, гл. 17) Сталь посвятила Людвигу- Фердинанду восторженные строки: «Прусский национальный характер более благороден и пылок, чем можно предположить, исходя из последних событий, и пламенный героизм несчастного принца Людвига не может не бросить отблеска славы и на его товарищей по оружию» ( DA . Т. 1. Р. 135–136; курсивом выделены строки, вычеркнутые наполеоновской цензурой). Впрочем, в текстах, не предназначенных для печати, Сталь оценивала принца Людвига с гораздо большим скептицизмом: г-же Неккер де Соссюр она пишет не без иронии, что «пленительный принц Людвиг», «немецкий Ловлас», после обеда изъясняется бессвязно, так что общаться с ним следует по утрам ( Lenormant . Р. 396), а отцу объясняет попросту, что принц каждый вечер напивается допьяна ( Carnets . Р. 445).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
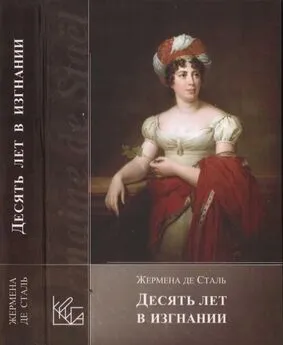
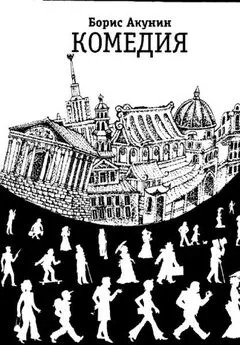

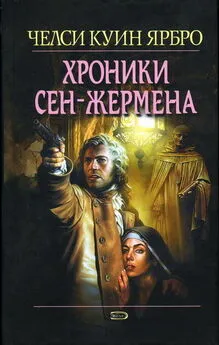
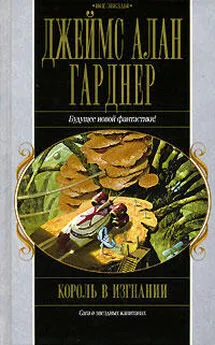
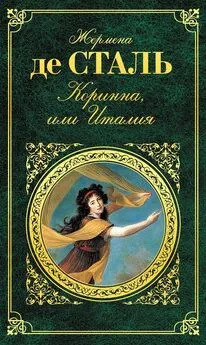
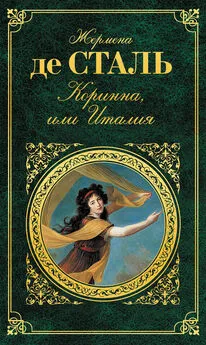
![Макс Мах - Эпоха мечей: Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/1064131/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n.webp)
