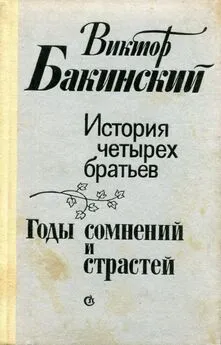Вениамин Додин - Бакинский этап
- Название:Бакинский этап
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1991
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вениамин Додин - Бакинский этап краткое содержание
Бакинский этап - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Между прочим, перед самым «эйзенхауэровским» интервью я получил записку посла США в Москве Джона Метлока. С ним у меня сложились не простые отношения, хотя поначалу — с 1977 года — были приятельскими, даже дружескими. Он — однокашник моего американского брата. У брата в Ниидеме мы и познакомились в 1977 году. Однако, в Москве я, по–дружбе, посчитал себя вправе высказать ему своё неприятие его поведения. С удивлением я убедился, что этот по–профессорски респектабельный и не глупый человек, и к тому же полномочный представитель великой державы, позволяет себе непотребное. Он откровенно вылизывает волосатые жопы наших партийных бонз, унижая себя и свою страну — и мою тоже. И делает это по капризам и в угоду амбициям своей супруги. А та, забывая, что она — второе лицо в иерархии посланцев США, бездумно кайфует на безвозмездно устраиваемых и плотно опекаемых КГБ вернисажах её ординарных фоторабот. Купается в фанфарных «рецензиях» всё тех же искусствоведов «в штатском». И — пусть не желая того — светит охранке всех, кто, проникая чудом на её выставки, надеется связаться с американцами в попытке хоть что–то передать на Запад или просить её помощи.
Итак, Метлок спрашивает меня: почему я отказываюсь от приглашения правительства США посетить мемориал Эйзенхауэров в день столетнего юбилея президента? Отвечаю: потому, что начиная с 1977 года мы не раз и не два навещали могилы Дуайта и Мэми, близких нам с супругой людей. Мы и впредь будем их навещать. Но мы ни в коем случае не станем участниками осквернения их светлой памяти арбатовыми–боровиками, — стадом рептилий, десятками лет изощряющихся в клевете на нашего друга и спасителя… Взрываются–то все они за бугор не к абилинским могилам. Отнюдь. Но «за кофточкими», как говорят в России, И уж вам–то это надлежит знать, господин посол…
…Пусть в ситуации не аналогичной, но хорошо мне знакомый писатель как–то проговорился: «Мне трудно ответить на вопрос, зачем я всё это рассказываю. Но стремление сохранить в людской памяти то, что безвозвратно исчезает, — одно из сильнейших человеческих побуждений…» В данном случае и я ему подчиняюсь.
Между тем, события 1990 года, и в их числе которым был я генератором, привели было растерявшегося Алексахина к «открытию»: Он решил, что нашелся человек, тем более дружески к нему расположенный, который заступит пост правоохранителя, оставленный им по немощи. Он поверил в меня. Решил, что я всё могу. И спровоцировал новую попытку, но теперь уже публичного, на многомиллионную аудиторию, раскрытия и осуждения давнего преступления предавшей его политической системы…
Не сомневаюсь, — он хорошо представлял все роковые последствия, — для себя и для меня, — своего решения. И я не осуждал его в то время, когда решение это принималось. Ведь оно стало спонтанной реакцией на убийство его друга и духовника протоиерея Александра Владимировича Меня. И сейчас — много лет спустя после роковой для о. Александра даты 9–го сентября 1990 года — задним числом тем более не берусь судить моего товарища. Ведь и сам я понимал, чем может окончиться наша попытка высветить хотя бы «Хлебное дело», и по сей день скрываемое от России. А в ней уже вовсю свирепствовала откровенная делёжка национального достояния. И облеченная властью уголовщина отбросила ненужные вериги пусть всего лишь косметической законности. Другое дело — я ощущал некую досаду, связанную с тем, что затеянное Иваном Павловичем именно после выхода «Последнего свидетеля» может сорвать моё выступление на Третьей чрезвычайной конференции немецкого общества «Возрождение», назначенное на 14 августа, — выступление очень важное для «русских» немцев и, конечно же, чреватое последствиями для меня. Тогда я сумел уговорить его повременить с «Бакинским этапом». И был прав.
Лето 1990 года со всяческими абсолютно недееспособными комиссиями — цековскими и совминовскими — мотался я по приволжским областям. Я хотел сам, без посторонней «помощи», убедиться в том, что предполагал всегда, в чём никогда не позволял себе сомневаться: партийно–хозяйственная кодла, оседлавшая Сталинградскую, Саратовскую и Астраханскую области, никогда не допустит восстановления Автономной республики Немцев Поволжья. Мало того, она не позволит этим трудягам возвратиться на родину. Она великолепно знает, что восстановленные немецкие хозяйства — пусть даже те же колхозы — превратятся в доказательство неспособности российской администрации добиться того же расцвета сельскохозяйственного производства в русских анклавах, доведенных советской властью до беспросветной нищеты. Разительной окажется действительность. И допустить такое — допустить создания «выставки достижений немецкого народа» в центре России, в «русском сердечнике», как выражаются радетели народа из «Нашего современника», они не позволят. Костьми лягут, но не дадут быть земле кормилицей миллионов россиян! И в этом им поспособствуют и те же журналисты–патриоты, которые видят в каждом национальном образовании врагов русской идеи, и, конечно же, московские партийные боссы — жирующие на крови народа.
Поездки подтвердили мои самые мрачные предположения. И в своём выступлении я сказал, между прочим:
— На Второй конференции «Возрождения»… идя навстречу руководству страны, представляя ему дополнительное время для выработки решения, советские немцы продлили ему кредит доверия до окончания весенней сессии Верховного Совета СССР… Но за это время руководство страны даже и не искало путей решения проблемы. Потому мы вынуждены перейти отныне к радикальным формам деятельности, в частности, направленным на организацию массового выезда своих членов из СССР в страны, правительства которых осознают, что же за контингент они принимают… Мы убеждены в том, что эти наши меры политического протеста не останутся неуслышанными другими репрессированными народами страны. И мы не сомневаемся, что отказ властей решить проблему своих немецких граждан, как граждан других преследуемых национальностей, потрясёт и до основания расколет российское общество…
… И немцы двинулись — десятками тысяч, сотнями тысяч семей…
Чтобы уяснить потери для России от эмиграции немецких крестьян, позволю себе привести отрывок из своего выступления на Третьей Чрезвычайной конференции «Возрождения» 15 августа 1990 года /тогда же подготовленного мною и срочно направленного в «Аргументы и факты»/.
«В 1870 году Правительство аннулировало привилегии, распустило опекунские конторы /самоуправление/, насильственно ввело во всех немецких общинных правлениях русский язык /…/ Эти меры вызвали переселенческое движение из Поволжья и Украины /…/ Значительное число колонистов эмигрировало в Америку…» /«Немцы». МСЭ-1, т.5, стр.704/.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: