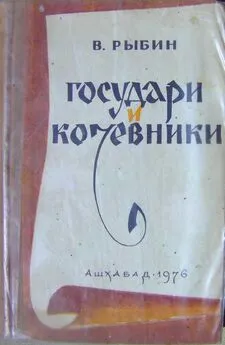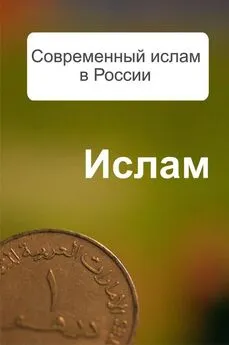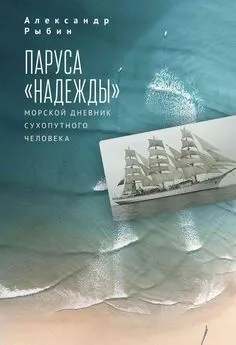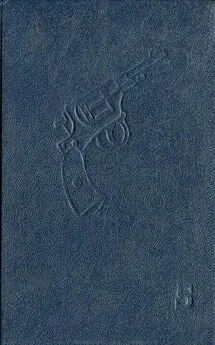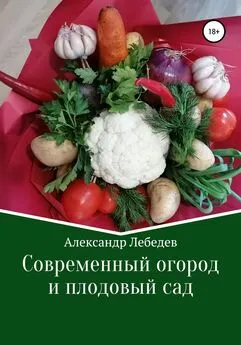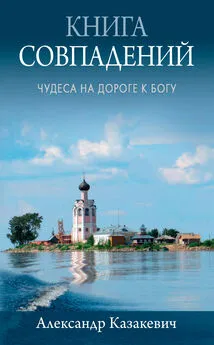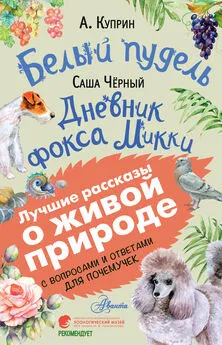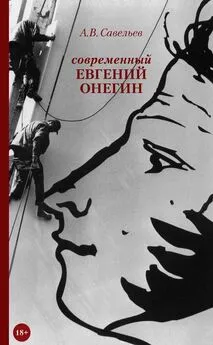Александр Рыбин - Современный кочевник (дневник на Дороге)
- Название:Современный кочевник (дневник на Дороге)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Рыбин - Современный кочевник (дневник на Дороге) краткое содержание
Современный кочевник (дневник на Дороге) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А девушка азиатских кровей... я не называю здесь ее имя, не называю имен тех, которых, считаю, не надо возвращать в свою жизнь. Слово изреченное, тем более написанное материализуется. Люди, названные по имени на бумаге, появляются в жизни. Переступают твой порог. Или яростно вламываются, двери с петель. Будто их громко и настойчиво звали.
Так что... они сыграли свою роль в моей жизни. Лежат на полочках воспоминаний. Пусть лежат. Не нужно им сваливаться в мое настоящее. Ведь еще столько нового, неизведанного собственным опытом.
... про девушку азиатских кровей. Мы прожили вместе полтора года. Почти срослись в семью. У нее народилась мечта. Из зависти к лучшей подруге - та переехала в Москву, хорошо устроилась. Обязательно переехать в Москву. Она понукала, подталкивала меня к Москве. И другая ее мечта. Чтобы мы зарабатывали много денег. Разбогатели. Я чужд материальным благам. Такая уж черта характера. И ненавидел, до сих пор ненавижу Москву. Москва - это не Россия. Стеклянные люди, невидящие друг друга. Чудовищная деформирующая личность энергетика. Пытался объяснить ей. Она понукала, подталкивала. Потому что решила, что я ей уже должен. И вытолкнула. Совсем. Из Томска. Уехал на Крайний Север. В поселок на Полярном круге. Без желания на какую-либо переписку или телефонные звонки.
В представлениях аборигенов, пеших кочевников Австралии, всякое имущество, "добро", может таить в себе некое зло и способно причинить вред своему владельцу. Поэтому "добро" должно постоянно прибывать в движении. Самая распространенная форма передвижения вещей у аборигенов - обмен. Обмен всегда симметричный. Ни в коем случае не для личного обогащения. Меняемые вещи являлись знаком. Знаком намерений: снова встречаться, устанавливать границы, вступать в родство через брак, петь, танцевать, делиться ресурсами, делиться идеями. Прочитал это у Брюса Чатвина. В его книге о путешествии в Австралию - в "Тропах песен".
Таким образом, у австралийских аборигенов не существовало частной собственности. По религиозным соображениям. Не было и государственной. Как таковое понятие "собственность" у них отсутствовало. Черные, в спутанных бородищах, бродившие в набедренных повязках по желтым пустыням, спавшие на земле аборигены были гораздо ближе к коммунизму, чем Советский Союз на пике своего развития. Или даже выше коммунизма. Все же он сильно привязан к распределению материальных благ. У аборигенов превыше всего стояли ценности духовные. Они и переходы свои совершали не из потребительских соображений. Шли по маршрутам "песен". "Песен", которые рассказывали о сотворении мира. То есть они возвращались в Начало Времен, двигаясь вдоль одной из песен.
Скудоумные, скучные пропойцы-англосаксы влезли с пистолетами и болезнями в эту великую цивилизацию. Уничтожили ее жестоко и коварно - нацисты бы им позавидовали. Где-то, правда, в глубинах самых не приспособленных для жизни австралийских пустынь сохранились еще кусочки, обломочки аборигенской цивилизации. Догорают угольки.
Побег на Крайний Север был побегом не в, а от. От скисших в Томске чувств. Мне предложили работу в Ямало-Ненецком автономном округе. И я ухватился за нее, как прокаженный за руку священника. Поехал через белую, в зиме, безлюдную Сибирь в самый северо-западный угол Азии. В тот край, который не был завоеван русскими, но мирно покорился "Белому царю". Где я впервые встретился с нацией кочевников. С ненцами.
Ненцы кочевали по северо-западу Азии то ли тысячу, то ли полторы тысячи лет. У историков нет единого мнения. Сами ненцы не придают особого значения условным единицам времени. Но в их легендах говорится, что они пришли с юга. А на их нынешних землях обитало племя "сихиртя". "Сихиртя" умели говорить на языках растений, животных, воды и гор. Оседлое племя. Однажды мне показали "городок сихиртя". Мешанина камней. Серых, невнятных по форме валунов. Я забрался на холм. Сверху в мешанине вырисовывался "детинец". Контуры маленькой крепости. Как раз для "сихиртя". Они были маленькими. Самые физически развитые из них были ростом не выше ненецких детей. Как гномы. Руины крепости крайнесеверных гномов. "Сихиртя" оборонялись. От кого? С ненцами они не воевали. Они не понимали языка пришедшего народа. Это их напугало. Бросили свои города, ремесла и священные места. Ушли под землю. Так в ненецких сказаниях. Священные места "сихиртя" до сих пор почитаются ненцами. Там оставляют сигареты, алкоголь, молоко или мелкие деньги, повязывают цветные ленточки. Забивают оленя, если место очень сильное, очень почитаемое.
Я работал в газете. В поселке Аксарка. Корреспондентом. Ездил по командировкам и экспедициям. В тундру, в ее крохотные деревушки, фактории и на стойбища. Писал о них. Постигал красоту тундры и ее жизнь.
Тундра, как море и пустыня, обладает особой красотой. Красотой пустого пространства. Среднего городского жителя она повергнет в страх. В панику с выпадающими глазами. В прикуриваемые одна от другой сигареты. Когда взгляду не за что зацепиться. Это шокирует. Когда визуализируется понятие Вечность. Это пережигает микросхемы в голове среднего городского жителя. Когда Природа в абсолютном своем проявлении, без шелухи человеческих цивилизаций.
Первый раз в тундру я попал через две недели после приезда в Аксарку. Поехал с местным краеведом Олегом на факторию Ямбура. На снегоходе. К устью Оби. Мы остановились на полпути. Олег курил. Тишина оглушала. Меня тянуло пойти по этой белой равнине. Тундра сливалась с белесым небом. Горизонта не было. Пойти в никуда. Без финиша, без цели. Такие случаи бывали. Читал. Люди просто уходили в тундру. Без специального снаряжения, без запасов еды. Шли, пока хватало сил. До смерти. Магия красоты пустого пространства. Утягивала их, растворяла. Городская суета, деньги, погони за самками - все никчемно при виде бесконечной тундры. Она дышит миллионы лет. Ее опыту можно доверять. Дыши параллельно небу. В ритме Луны. Положив голову на океанский берег. И разве появится тогда глупая мысль, составлять еженедельные финансовые отчеты?
Ненцы пересекали ямальские тундры с юга на север с весны по лето. В обратном направлении - с осени до зимы. Короткое северное лето переполнено комарами и слепнями. Чтобы от них не страдали олени, ненцы со своими стадами проводили лето на берегах Северного Ледовитого океана. Холодные океанские ветры выдували гнусов. Зимой требовалось много дров. Ненцы зимовали в южных районах округа, где тундра переходила в чахлые северные леса.
С тем же краеведом Олегом я первый раз попал на ненецкое стойбище. Три конуса чумов стояли в окружении низких тонкоствольных елей и лиственниц. Беспорядочно стояли ездовые и грузовые нарты. Под мусор отводилось одно определенное место. Там же располагался и туалет. Стада паслись в нескольких километрах от стойбища. Лишь несколько оленей были привязаны к ездовым нартам. В чумах тусклый свет от очагов. Чисто и никакого неприятного запаха. Только один запах - "вкусный", от лиственничных дров. Нас, гостей, первым делом напоили горячим чаем и накормили, а затем расспрашивали. Кочевников интересовало все. От цен на муку в Аксарке до войны в Ираке. Мы сидели за низким столиком на оленьих шкурах. На мужской, левой от входа, стороне чума. Ненцы никуда не спешили. Тысячелетнее спокойствие и леность в их движениях. Никакой дерганности и привязанности к минутным и часовым стрелкам, как у городских и поселковых жителей. У них имелось все необходимое для жизни. Без лишних условностей, которым вынужден подчиняться человек, вписанный в систему государства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: