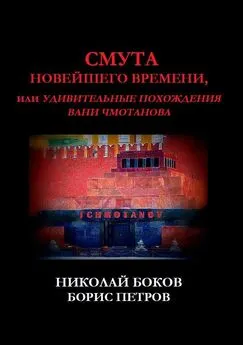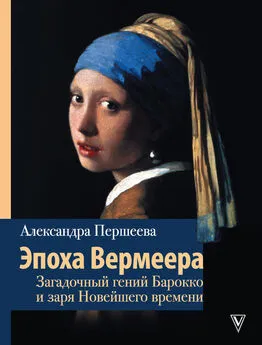Александр Севастьянов - Российское искусство новейшего времени
- Название:Российское искусство новейшего времени
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005557612
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Севастьянов - Российское искусство новейшего времени краткое содержание
Российское искусство новейшего времени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Можно видеть, как «правильное», нормативное искусство ренессанса, с его расчисленными по учебнику «идеальными» пропорциями, упрощенными (по сравнению с готикой) формами и культом рацио, верой в торжество разума, величественными идеями, сменяется вычурным маньеризмом и пышным, игривым барокко (чье наименование весьма показательно происходит от «неправильной» формы жемчужины). Где присходит апофеоз индивидуализма, исключительность становится нормой, а сочетание несочетаемого возводится в принцип. Можно видеть, как строгость и рациональность в искусстве и литературе времен Людовика XIV, сопровождаемые культом долга и разума, суровой героики (как в «Битве израильтян с амореями» Пуссена или в синхронных ей пьесах Корнеля и Расина), сменяется прихотливостью рокайля и культом нежных чувств при Людовике XV. Можно видеть, как расчисленный по всем правилам неоклассицизм ампира являет нам новые образцы героики самоотречения в картинах Давида (например, «Клятва Горациев») и Гро («Наполеон на Аркольском мосту»), чтобы смениться игрой страстей и экзотическими сценами у романтика Делакруа. И т. д. Словом, качание маятника от классицистского тезиса (подавление индивидуализма) к романтическому антитезису (бунт индивидуальности) и обратно также прослеживается с полной очевидностью.
Правомерно спросить: что же происходит в момент перелома, отчего новый цикл каждый раз приходит на смену старому? Почему спиралеобразная история искусства каждый раз «срывается с резьбы» и возвращается от сложностей романтической или реалистической эстетики к простым классическим формам? Почему после сложнейшей готики приходит простенький Ренессанс, после пышного барокко – строгая простота классицизма, после изысканного рококо – нормативный неоклассицизм и т.д.?
* * *
Ответ лежит на поверхности, стоит нам только применить социодинамический критерий. Потому что тогда нетрудно будет увидеть, что принципы классицизма каждый раз сооответствуют умонастроению нового общественного класса, одерживающего историческую победу и впервые захватившего командные высоты в политике и экономике. Все дело в радикальной смене расширившейся, но упростившейся аудитории. На смену сравнительно немногочисленным высокоразвитым людям – заказчикам и ценителям искусства, с тонкой душевной организацией, сложно устроенной психикой и разработанной мотивацией, приходят люди простые, как топор, с примитивным и неразвитым душевным устройством, для которых простенькая радость узнавания служит для самоутверждения в качестве «потребителя культуры» (я «узнал» – значит, я «приобщен», «посвящен»).
Русская литература и искусство наиболее наглядно демонстрирует эту взаимосвязь. Филипп Боклерк, рассматривая движение и переход от классицизма к романтизму, а затем к реализму, разъясняет:
«Нетрудно заметить, что весь этот путь был пройден литературой вместе с именно дворянской интеллигенцией от Кантемира и Сумарокова до Пушкина и Льва Толстого. Напомню, что Сумароков – один их первых выпускников первого сословного дворянского училища – Сухопутного шляхетского корпуса. А Пушкин и Толстой пережили: первый – катастрофу на Сенатской, где дворянская интеллигенция сломала шею, а второй – почти полное разорение дворянства. То есть хронология данного литературного процесса точно совпадает с хронологией возникновения, расцвета, а затем и упадка русской дворянской империи и дворянской аудитории.
<���…>
Мы отметили цикличность развития вкуса.
Мы отметили строго неотменимую последовательность фаз в развитии каждого нового цикла…
Мы предположили, что развитие каждого нового цикла совершается в рамках развития новой интеллигенции, представляющей новый социально-исторический авангард. От Сумарокова до Льва Толстого интеллигенция дворянская, от Чернышевского до Горького – разночинско-буржуазная, от Маяковского до Солженицына – всенародно-социалистическая, ныне – всенародно-буржуазная.
Остается только спросить: почему новая интеллигентская аудитория каждый раз предпочитает вначале одно (условно – «классицизм»), потом другое («сентиментализм-романтизм») и наконец – третье («реализм»)? Ведь не по велению же Гегеля…
Вот главная причина. Ни один класс не смог бы дойти до авансцены истории и возглавить общество, не будучи сплочен идеологией единства, общих целей и задач, подчинения индивида – массе, строгого порядка и послушания, безусловного предпочтения долга и т.д., а также не будучи уверен, что его победа освящена законом разума. То есть, так называемый «классицизм» во всех его разновидностях есть не что иное, как эстетическое отражение и воплощение идеологии и психологии рвущегося к победе или только что победившего класса. Этот класс еще примитивен и груб; его потребности в прекрасном сильны, но неразвиты, как и он сам. Он плюет на утонченное искусство сломленного им, выдохшегося, уступившего арену противника. (Да оно и попросту непонятно, недоступно ему.)
Проходит время, и класс-господин создает из самого себя собственную привилегированную интеллигенцию, чтобы лучше воевать и управлять. Он создает и использует и непривилегированную (из других сословий) интеллигенцию, чтобы учить своих детей, лечить семью, обустраивать быт, в том числе государственный, украшать досуг и интерьер. К этому времени дети победителей, выросшие в обстановке относительной стабильности, уже не чувствуют потребности подчинять себя единому целому, как это делали отцы, понуждаемые инстинктом самосохранения. В детях (я говорю: «в детях», хотя дело может не ограничиваться одним поколением) прочно пускает корни росток индивидуализма. Им хочется обособиться от тяготящего их коллектива, чьи требования воспринимаются как постылый гнет 76 76 «Условья общества суть мыслящему цепи», – восклицал сентименталист М. Н. Муравьев, отец будущего декабриста.
; им хочется заняться собой, отличиться, выделиться. Профессионалы-интеллигенты, эти ходячие крепости индивидуализма, катализируют данный процесс.
«Внуки» победителей, выросшие в относительной свободе, не терпят уже никакого принуждения ни над собой, ни вокруг себя (ср.: декабристы – «первое непоротое поколение в России»). Революционный романтизм – а романтизм всегда революционен, хоть это и бунт одиночек – есть роковой жребий внуков, «его же не прейдеши».
Ну чем, скажите на милость, может кончиться революция романтиков? Известно… «Сенатской площадью» или «Перестройкой».
Реалистически мыслящие люди чувствуют катастрофу заранее. Так еще в 1822—24 гг. от декабризма – революционного романтизма – отходят главные умники поколения: Лунин, Чаадаев, Катенин, Грибоедов, Николай Тургенев. Накануне восстания собирается идти к царю с повинной Пестель. С 1823 г. избирает новый путь и расходится с декабристами в литературе и политике Пушкин.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: