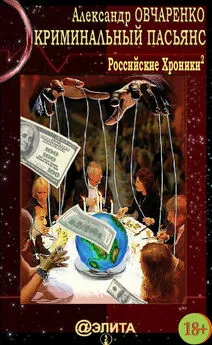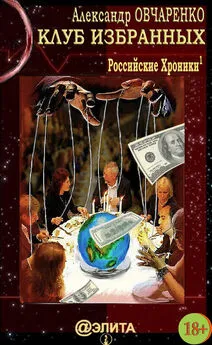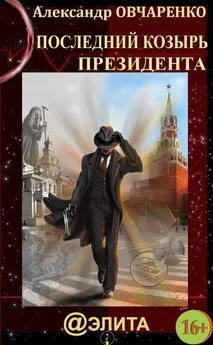Александр Овчаренко - В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre]
- Название:В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский интеллектуально-деловой клуб
- Год:2002
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Овчаренко - В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre] краткое содержание
В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Кто знает, а вдруг будет роман, который останется и по которому потом будут судить о нашей эпохе? Ведь здания разрушаются, государства исчезают, а книги часто остаются.
— А не можете вы все-таки его закончить?
— Не могу. Видите ли, моя ошибка состояла в том, что я приступал к нему трижды в разное время. Сделал постройку — рассказ о близких и дорогих мне людях, потом пошли надстройки — одна, вторая, третья... восьмая. И вниз. Туда тоже — этаж, другой. Потом вживление — философия, космогония. Написанные главы я писал заново, не справляясь с тем, как они были написаны раньше. Бесчисленные «извозчики». А ведь их надо не просто «вживить». А изменить, соответственно, всю кровеносную систему произведения.
— А не можете продиктовать роман стенографистке, как Достоевский?
— Нет, не могу. Видите ли, хотя Достоевский вот какой (он показал рукой под потолок), а я вот такусенький, все-таки есть между нами и другая разница: Достоевский работал на мысли. А я еще и на живописи. А тут уж не надиктуешь...
— Леонид Максимович, давайте уйдем в прошлое и посмотрим на «Вора».
— Я только что сделал в него еще одну вставку. В первом варианте герой был романтизирован, этот налет я беспощадно с него снимаю. Он бездушный человек... Помните сцену, когда Митька пришел в ресторан, сидит, помешивая ложечкой в стакане, и вдруг падает шляпа. Все бросаются, чтобы поднять ее. Выражение высшего ореола. Потом эта сцена повторяется... Падает шляпа, но никто не бросается. Люди даже злорадствуют. Митька вдруг сам напрягается, чтобы встать, вдруг щерится, блеснуло во рту золото коронки, символизирующей высший ранг в воровском мире, волчью беспощадность. Этот блеск смиряет окружающих, снова превращает их в рабов, но рабов уже не особенного человека, занятого великими думами, а «пахана», «вожака» бандитов и — только. У меня существовал и другой, более резкий вариант. Однажды я лежал в больнице, температура — 39, и вдруг я попросил нянечку записать сцену: падает шляпа. Ксения обличает Митьку. Все надвигаются. Он наклоняется сам, чтобы взять упавшую шляпу, и бросается в дверь. Кто-то поддает ему ногой под зад. Искал-искал среди бумаг, не нашел.
— Стоит ли уж настолько развенчивать?
— Стоит. От таких, как Митька, вся черствость жизни, все ее несчастья.
— Леонид Максимович, первой вашей находкой в «Воре» считаю демисезон Фирсова. Очень яркая деталь, не забывающаяся, утепляющая образ.
— Возвращаясь из Италии от Горького, я купил в Вене себе такой демисезон и носил его в подражание собственному герою.
— Леонид Максимович, на странице 96 третьего тома (по десятитомнику) Фирсов утверждает, что память всегда хранит только пепел. Верно ли? Разве память не является частью «блестинки»?
— Не является. Блестинка — это настой, облик человека страдающего, структура человека, самое главное во всем бытии, вытяжка из всего опыта человечества, составляющая стержень человека, а пепел — это состояние, в котором мы храним прошлое, одежда его.
— Без овладения культурой, — говорит у вас Фирсов, — весьма многое может у нас обернуться в высшей степени наоборот. Народ существует в целом, в объеме всей своей истории. В какой мере на возникновение этой цепи афоризмов повлиял исторический нигилизм двадцатых годов?
— Мы эти накопления не взяли, и из-за этого мы гибнем. Дорогой Александр Иванович, если вы думаете, что Ленин по велению сердца заговорил о национальной гордости великороссов, то вы, извините, мало что понимаете. Он сказал это, будучи гениальным политиком и понимая, что наш мир может вертеться только на русском подшипнике. И еще потому, что Россия, русская литература больше всего поработали для этой блестинки. Но после него силы, которые я не знаю, как определить, трудились над тем, чтобы люди наши не считались с этой блестинкой. И вот я, русский писатель, уже примирился с тем, что России нет. Я, русский писатель, принимаю все таким, каким его сегодня делают антирусские силы и служащие им бюрократы, освобождающие культуру от культуры. Произошла какая-то трагическая ошибка. Приняв решение о построении социализма в одной стране, мы должны были построить его действительно как образец для всего мира. Как общество, где государство работает с точностью и безупречностью часового механизма, где ни одна умная задумка не маринуется. Где люди думают и спорят, как в Платоновской академии, где машины помогают людям, где все стремятся к справедливости и добру. Мы же сами себя обескровили, отливая кровь то в Гану, то в Анголу, то в Египет.
— Вы не забыли сцену, и которой Митька, глядя на Агея, делает вдруг такое «дикое открытие», что до солдатчины Агей был «красив и статен» (стр. 114).
— Там так написано?
— Да, хорошо. А не из этой ли сцены родилась картина убийства Макаром Нагульновым Тимошки Рваного?
— К стыду своему, я второй книги «Поднятой целины» не читал. Возможно. У меня много брали. В особенности кино. Например, японцы.
— Вернемся к литературе двадцатых годов. В какой мере притяжении и отталкивания отражались на ваших замыслах?
— Долгое время люди, которых я не знаю как назвать, ну, скажем, интернационалисты, заявляли, что я очень национален, а не интернационален, что ли. Меня за это так травили... Когда редакторша работала над «Русским лесом», она спросила: «Зачем этот вызов? Зачем на первый план выносить слово «русский»? Может быть, если бы и был татарином, узбеком, евреем, я мог бы употреблять слово «русский» без нареканий и подозрений. Но, увы, я действительно русский. Следовательно, чтобы меня не заподозрили ни в чем, автоматически я должен был заменить это слово другим — «советский». Иначе шовинист. Это доходило до идиотизма. Болезненное отношение евреев к тому, что их могли назвать евреями, было перенесено на русских. Им было негласно запрещено называться русскими. Только в паспорте еще оставалась национальность. На деле русская национальность лишалась законного права быть русской... в отлично от всех других, населяющих Советский Союз. Но это в сторону. По существу же всего вопроса скажу вот что. Маленькие писатели должны быть очень благодарны советской власти за то, что она им дала, бескрылым бытовикам, готовую философскую систему, основу, в которую им предстояло вложить, как в ячейку, бытовые факты. Клади и готово.
Читается. Успех. Гонорары. Я же с самого начала, не скажу, что искал свою философию, но на основе плодотворной, живительной философии эпохи я искал свою структуру, свои темы, свою манеру. Я писал на человеческой основе, а не на целительных таблетках.
— Глубинную основу романа «Вор» выражает ныне всемирно известная «блестинка»: «вчерашняя душа мира»; «с раздражающе умной колдовской блестинкой в померкающем зрачке»; «наиважнейшая ценность бытия», выплавленная из всего «опыта человеческой истории» (стр. 137). Как возник этот бездонной глубины образ-символ?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Александр Овчаренко - В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre]](/books/1150493/aleksandr-ovcharenko-v-krugu-leonida-leonova-iz-zapisok-1968-1988-h-godov-calibre.webp)