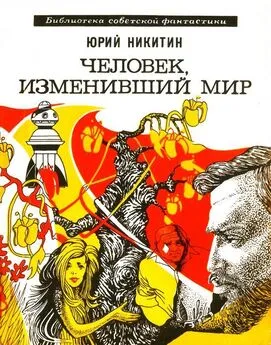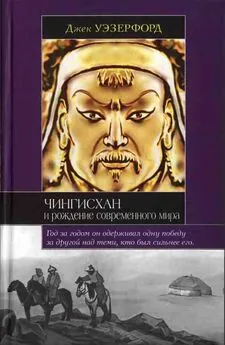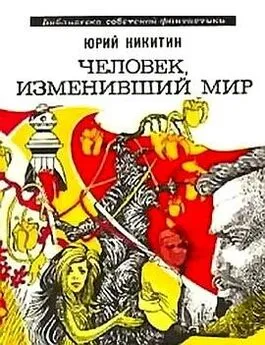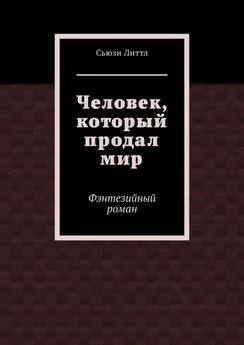Фрэнк Маклинн - Чингисхан. Человек, завоевавший мир
- Название:Чингисхан. Человек, завоевавший мир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-095186-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фрэнк Маклинн - Чингисхан. Человек, завоевавший мир краткое содержание
Чингисхан. Человек, завоевавший мир - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Важно не забывать о том, что на решения Чингисхана не могли не влиять его постоянная озабоченность малочисленностью своих войск и стремление избежать тяжелых потерь. В его подсознании всегда присутствовало инстинктивное желание сократить потенциальное численное неравенство умерщвлением тех, кто проявлял строптивость и не сдавался; так он поступал в отношении тайджиутов, татар, меркитов, кереитов, цзиньцев, всех своих врагов; если его войска и сохраняли жизнь пленникам, то лишь для того, чтобы использовать их в качестве «живого щита» [1490] JB I p. 131; Boyle, Cambridge History of Iran v pp. 303–421 (at p. 312); Barthold, Turkestan pp. 427–455.
. В его решениях и действиях прагматизм перевешивал гуманность, и несчастные обитатели Балха не стали исключением из правил. Чингисхан потребовал, чтобы имущие граждане вышли из города якобы для оценки податей, которые они должны заплатить завоевателям, и затем приказал их убить, полагая, что таким образом будет уничтожен потенциал для восстания или мятежа [1491] d'Ohsson, Histoire I p. 272.
. Он мог заглушить какие-либо рудименты совести осознанием того, что не приказал убить всех жителей, как это обычно делалось, когда город отказывался сдаваться, а лишь ограничился «рутинным» разорением Балха.
Затем они расстались: Чингисхан направился в Афганистан, а Толуй — довершать завоевание Хорасана. Но прежде чем распрощаться, отец дал младшему сыну ясные и холодящие душу наставления. При малейших признаках неповиновения он обязывался убивать всех без исключения и без пощады. Если город изъявит готовность капитулировать, то Толуй должен сам принимать наиболее оптимальное решение с учетом главного фактора — численности противника [1492] J. A. Boyle, 'On the Titles given in Juvaini to certain Mongolian Princes,' Harvard Journal of Asiatic Studies 19 (1956) pp. 146–154 (at pp. 146–148); Boyle, 'Iru and Maru in the Secret History of the Mongols,' Harvard Journal of Asiatic Studies 17 (1954) рр. 403–410.
. Чингисхан поставил перед Толуем нелегкую задачу. Хорасан состоял в основном из степей с редкими рощицами ильма и тополя, перемежавшихся оазисами и заканчивавшихся пустыней посередине Персидского (Иранского) плато. Жить здесь было тяжело, а за пределами городов и оазисов — невозможно, поскольку только лишь сложнейшие оросительные системы подавали воду для садов, виноградников, полей риса и проса, для парков и фруктовых насаждений в городах.
Освободившись от отцовской опеки, Толуй решил пойти на северо-запад и осадить Мерв, увлекшись этим городом по докладам разведки. Это был действительно один из самых больших городов мира тех времен, с населением около 200 000 человек, архитектурным шедевром, уступавшим по значимости в империи хорезмшаха, пожалуй, только Бухаре. Как и Бухара, он был богат и в избытке обеспечен источниками наращивания богатства [1493] For the comparison with Bukhara see Dumper & Stanley, Cities of the Middle East pp. 95–99; cf Frye, al-Narshakhi. The entire vexed question of the size of medieval cities is discussed in Chandler, Urban Growth.
. Город арабских сказок «Тысячи и одной ночи», располагавшийся на плодородной равнине в оазисе нижнего течения реки Мургаб, славился шелковыми и тонкими хлопчатобумажными тканями, художественной керамикой и коврами. Он был одним из узловых центров Великого шелкового пути: отсюда шли дороги на северо-запад в Нису (близ современного Ашгабата), на запад в Астрабад (Горган) у Каспийского моря, на север в Хиву (Хорезм), на юг через Герат к Персидскому заливу и на юго-запад через Нишапур в Ирак-Аджеми и Месопотамию. По Шелковому пути уже перемещался поток товаров между Византией, Индией и Арабским халифатом (позднее в составе Монгольской империи к этому потоку подключатся Россия и Европа) [1494] Bloom & Blair, Islamic Art and Architecture II pp. 476–479.
. В Мерв, где было множество искусных ткачей, гончаров и медников, тянулись караваны со всего Ближнего и Среднего Востока. Его самой заметной достопримечательностью была гробница султана Санджара с бирюзовым куполом, видневшимся издалека.
Город обеспечивала водой река Мургаб [1495] For Tolui on the road to Merv see JR II p. 1028. For the mausoleums of the great Iranian cities — Bukhara, Urgench, Merv and Herat — see Asimov & Bosworth, History of Civilizations, IV part 2 pp. 516–531, 545–549.
. Южнее города плотины и дамбы, облицованные деревом, препятствовали ей изменить русло или выйти из берегов. В трех милях к югу от Мерва река запруживалась огромным круглым озером, от которого радиально отводись четыре канала, подававшие воду в различные кварталы и предместья; уровень воды в озере регулировался шлюзами. В половодье шлюзы открывались, вода распределялась согласно установленным правилам, и это обычно давало повод для празднования и совершения обряда благодарения [1496] For Tolui on the road to Merv see JR II p. 1028. For the mausoleums of the great Iranian cities — Bukhara, Urgench, Merv and Herat — see Asimov & Bosworth, History of Civilizations, IV part 2 p. 265.
. Всей системой водоснабжения заведовал особый чиновник — мираб , имевший, согласно некоторым сообщениям, даже больше власти, чем градоначальник. В его подчинении было 12 000 человек, обеспечивавших бесперебойную работу всей системы, в том числе и триста водолазов, ремонтировавших в случае надобности дамбы, для чего они располагали необходимым запасом древесины. На дамбах были установлены водомерные рейки; самый высокий подъем воды был зафиксирован в пределах «шестидесяти ячменных зерен» [1497] Треть или четверть дюйма, средний размер ячменного зерна. — Прим. пер .
, тогда как во время засухи она поднималась выше самого низкого уровня всего на «шесть зерен». Мираб возглавлял гидрологическую иерархию. Он персонально отвечал за поддержание в рабочем состоянии каналов; чиновники, называвшиеся бандбанами (или варкбанами ), следили за состоянием дамб и руководили водолазами; в ведении джуйбанов были отводящие арыки; аб-андазы («водомеры») контролировали поступление воды из верховья [1498] For Tolui on the road to Merv see JR II p. 1028. For the mausoleums of the great Iranian cities — Bukhara, Urgench, Merv and Herat — see Asimov & Bosworth, History of Civilizations, iv part 2 p. 297.
. На ирригационных сооружениях часто использовался коллективный труд, получивший общее название «хашар» [1499] The Merv system was a classic example of what one scholar has called 'oriental despotism', known to Marxists as the 'oriental mode of production' (see Wittfogel, Oriental Despotism).
. Монголы многое переняли из ирригационной практики покоренных народов и, став хозяевами империи, сами возводили плотины, дамбы, многоступенчатые системы орошения в Иране и в Средней Азии [1500] Asimov & Bosworth, History of Civilizations iv part 2 p. 266; Williams, Merv.
.
Возможно, Толуй и не тронул бы этот сказочный город, если бы он смиренно заявил о капитуляции. Но этого не случилось. Когда возле города появились Субэдэй и Джэбэ, преследовавшие шаха, граждане, похоже, разделились в своем отношении к монголам. Мухаммед тогда приказал войскам, находившимся за стенами, отступить в ближайшую крепость Марага, а гражданам посоветовал смириться. Генералы почувствовали себя неуютно в Мараге и вернулись с войсками в Мерв, усилив позиции лагеря, настроенного против монголов. Партию мира, тоже влиятельную, возглавлял муфтий, но его обвинили в предательстве и казнили [1501] d'Ohsson, Histoire I pp. 279–282.
. Субэдэй и Джэбэ попытались уговорить Мерв мирно повиноваться, соблазняя великодушными посулами, но партия войны подвергла пыткам посланников, выведав у них истинные замыслы монголов, и казнила. После того как Джэбэ и Субэдей, исполняя приказ Чингисхана, не стали упорствовать и продолжили погоню за шахом, горожане впали в эйфорию самодовольства и высокомерия, и они действительно перепугались, увидев возле города огромную орду Толуя. По оценкам хронистов-современников, она насчитывала 70 000 человек — явное преувеличение — хотя воинство Толуя, в любом случае, было внушительное и устрашающее, особенно если учесть то, как много в нем было пленников [1502] d'Ohsson, Histoire I pp. 283–284.
.
Интервал:
Закладка:
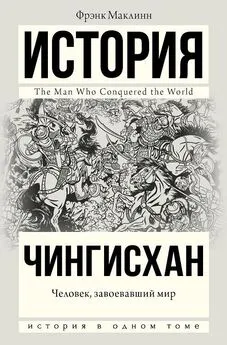


![Ксения Чепикова - Человек, научивший мир читать [История Великой информационной революции]](/books/1059757/kseniya-chepikova-chelovek-nauchivshij-mir-chitat-ist.webp)