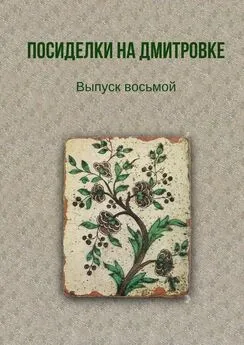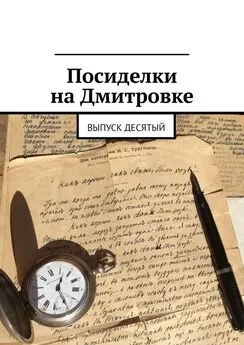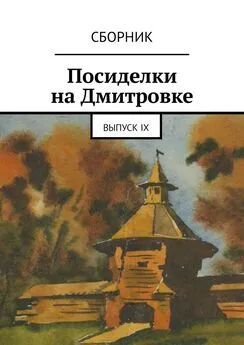Коллектив авторов - Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8
- Название:Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8 краткое содержание
На 1-й стр. обложки: Изразец печной. Великий Устюг. Глина, цветные эмали, глазурь. Конец XVIII в.
Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Это наверняка знал молодой человек, с которым я познакомился во время поездки в Эльбезу, самое отдаленное шорское село, куда решено было добраться на санях. Парень считался недееспособным инвалидом. Но мне показался вполне нормальным человеком. Я слышал, где-то в Англии словосочетанием god’s fool («глупец Божий»), являющимся синонимом слова «юродивый», называли обделенных природой людей, считая их пророками. Возможно, потому, что они обладали неким даром видеть мир по-иному, не как остальные люди. Молодой шорец жил со своей теткой в одной из умирающих деревень. Еще с ними жила кошка. Незадолго до нашей встречи случилась беда — они стали погорельцами, и им пришлось ютиться в чудом уцелевшем от пожара сарае.
Преодолев в направлении Эльбезы пару десятков километров и спустившись с очередной сопки на равнину, наш обоз, состоящий из двух саней, остановился в той самой деревне, где жил парень, в ней я насчитал всего шесть домов. Пока лошади отдыхали, мы успели пообщаться с местными жителями. Они рассказали о недавнем пожаре и отвели на пепелище. Я и мои провожатые вошли в наспех оборудованное, совершенно не пригодное для проживания «жилище». Внутри было почти также морозно, как и снаружи. Свет пробивался через полиэтиленовую пленку, заменявшую теперь часть обвалившейся когда-то крыши. Парень, сосредоточив свой взгляд на темной бревенчатой стене, молча сидел на самодельном топчане, поглаживая кошку у себя на коленях. «Как же здесь можно ночевать»? — спросил я у него, шокированный тем, что увидел. «А мы с кошкой вот так обнимемся…» — сказал он, прижав к себе свою подружку. Проведя рукой под носом, парень прилег боком на топчан и натянул на себя какую-то тряпку. «Так и спим», — добавил, закрыв глаза.
Не хотелось их тревожить. «Пусть они продолжают согревать друг друга и не станут терять драгоценного тепла», — подумал я. Мы вышли, осторожно прикрыв за собой дверь. Один из провожавших нас жителей деревни сказал, что погорельцам обещали помощь. На эти слова никто не отреагировал. Мы молча направились к успевшим немного передохнуть лошадям, подбиравшим со снега остатки сена. О чем думал тот парень, слушая по ночам бесконечно долгое пение вьюги? Какую судьбу он себе пророчил под убаюкивающее мурлыканье близкого ему существа? Этого я не мог знать.
Старик Алексий
Когда я решил написать этот очерк, мне захотелось посвятить его шорскому старику Алексию. Забытый страной и собственными детьми, он доживал свою непростую жизнь в маленькой, закопченной дочерна избе.
Со временем перестаешь помнить не самих людей, с которыми доводилось когда-то встречаться, но их имена, голоса, лица. Однако, так бывает не всегда. И сегодня, несмотря на прошедшие два с половиной десятка лет, я хорошо помню изрезанное глубокими морщинами худое лицо старика, его воспаленные, слегка опущенные нижние веки, особенный взгляд, выражающий то ли усталость, то ли смирение, тихий, немного дрожащий голос. Слышу даже, как этот одинокий человек, привыкший к молчанию, произносит некоторые слова. Например, последнюю согласную в слове «нет» он чуть-чуть смягчает. Но фамилии жителя небольшого села Средний Пызас, по паспорту Алексея Гавриловича, которому тогда пошел восемьдесят второй год, припомнить не могу. Хотя самого старика, возможно, благодаря бесконечным прокруткам отснятых мною сюжетов для видеофильма, я хорошо запомнил. А может, из-за какой-то особенной тоски в его выцветших голубых глазах.
Алексей — одно из множества русских православных имен, распространенных среди шорцев. Не знаю, почему в памяти сохранилось не Алексей, а именно Алексий. Он сидел за столом в своей бревенчатой избушке, почти беззубый и ослабевший от прожитых лет, преждевременно состарившийся из-за всего того, что свалилось на его плечи, включая войну. О том, что он воевал и дошел до Германии, свидетельствовали награды на пиджаке, который, скорее всего, кто-то попросил его надеть уже после того, как мы вошли в дом.
Алексий больше рассказывал не о прошлом, о чем обычно говорят старики, а о сегодняшнем дне, о катастрофически трудном для пожилого человека положении, в котором он оказался. Пенсия, рассчитанная без учета стажа работы в расформированных еще в 1958 году колхозах, крошечная; недавно приезжал сын, почти год не навещавший отца.
«Сын, говорите, приезжал. Чтобы помочь вам?» — спросили мы у Алексия. — « Не-е-ть » — без обиды в голосе ответил он и, все так же сглаживая и смягчая слова, продолжил: «За мьясом приходил…»
Оказывается, не только для себя, но и для сына, живущего в городе, этот немощный старик все еще держал скотину, заготавливал сено, пилил и колол дрова.
Мы продолжали разговаривать с Алексием, стараясь охватить все стороны совсем уж непростой жизни здешних старожилов. Не буду вдаваться в подробности. Слишком уж схожи проблемы многих поживших на этом свете людей, не важно, какой они национальности, откуда родом.
Пришло время покидать Средний Пызас. Мы вышли на крыльцо. Нас ждала привязанная к длинным почерневшим жердям, огораживающим хозяйский двор, запряженная в сани лошадка Майка — единственный наш транспорт. От белого снега и выглянувшего из-за туч солнца лицо старика Алексия посветлело. Он впервые улыбнулся и на прощание помахал нам рукой.
Огненная вода
Серьезная проблема: шорские дети, вырастая, покидают родителей и, как правило, больше к ним не возвращаются. Частично это можно объяснить отсутствием инфраструктуры, нехваткой учебных заведений, рабочих мест в малонаселенной и труднодоступной местности. Конечно, родителям с детьми нелегко выживать в тайге. Но сохраниться семье вдвойне труднее, еще и потому, что есть еще одна беда — алкоголизм. Из-за этого многие дети попадают в школу-интернат, находящуюся далеко от родных деревень. Оторванные от природной среды, взрослея, они, так и не переняв опыт своих предков, позволяющий человеку жить в экстремальных условиях, как правило, не возвращаются в родительский дом. «Выпускники даже замок в дверь врезать не могут, как же им выживать в тайге?» — жаловалась мне директор восьмилетней школы-интерната. Не остаются они и в Таштаголе, едут «за длинным рублем» дальше, чаще всего на Север добывать нефть или газ.
«Вы думаете, я не люблю своих деток, я все ночи напролет плачу», — на мгновение, как бы, протрезвев, говорила мне жительница Эльбезы, молодая, спивающаяся мать двоих детей, с которыми ей пришлось расстаться. Разговор этот происходил в доме дяди Василия Ивановича, накануне предложившего мне отправиться в это шорское село. А дело было так.
Преодолев сотню километров на вертолете, совершив санный путь длиною в короткий зимний день по таежным сопкам, мы приближались к Эльбезе — небольшому селу на востоке Горной Шории. Помню, как на ходу задняя нога лошади, впряженной в наши сани, провалилась в замерзший ручей, лед которого был подмыт течением. Сани остановились, и мы оцепенели в ожидании худшего. Сначала лошадь, вероятно, от боли, хрипло фыркнула и, как бы оценивая обстановку, замерла, но тут же изо всех сил рванулась вперед, освободив себя из ледяного капкана. Осмотрев оцарапанную льдом лодыжку бедняги, мы с облегчением вздохнули: кость была цела. До деревни оставались считанные десятки метров.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: