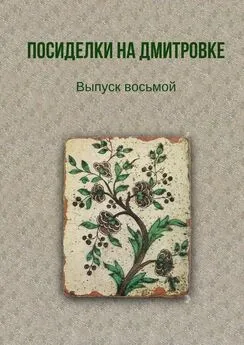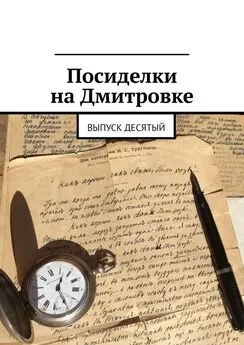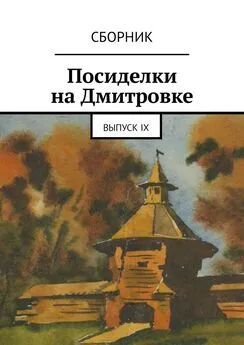Коллектив авторов - Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8
- Название:Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8 краткое содержание
На 1-й стр. обложки: Изразец печной. Великий Устюг. Глина, цветные эмали, глазурь. Конец XVIII в.
Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И вот — снова вечер. Мы опять on deck. Кроме нас в запасных числятся Тод Рейхерт и Элен ван Вуд. У кого больше шансов — говорить не стоит… «Тетива» в состоянии минутной готовности. Стив рядом. И вдруг — о, чудо! Нам объявили старт!
Быстро захлопываем Алексея в скорлупу, я заклеиваю две половины скотчем. Стив стартует «Тетиву».
Медленно, как океанский теплоход, мой стримлайнер уходит на дистанцию. Вид этого сухопутного дельфина завораживает. Алексей набирает скорость и уходит в горизонт, в край гор. Я прыгаю в «додж», сажаю рядом судью — и мы приближаемся к «Тетиве» на разрешенные правилами 200 метров. По рации даю советы Алексею, чтобы держался осевой линии, но несколько справа.
Передо мной в сгущающихся сумерках эфемерно и невесомо скользит белый, почти нереальный стримлайнер. Я знаю, что Алексей внутри напрягает все свои молодые силы, чтобы войти в историю — установить рекорд России. Но — вот уже и мерные 200 метров… Увы, скорость за 100 км/час, но рекорд Сергея Дашевского опять устоял.
Я провожаю взглядом бесшумно ускользающую от меня «Тетиву»… И вдруг понимаю истинное значение слова on deck. В нашем с Алексеем случае deck — это ведь еще и «украшать»! Так вот, мы здесь — для красоты!
И не только мы, но и все остальные.
Ибо некрасивый стримлайнер не победит.
А моя «Тетива» — очень красива…
«Тфу!.. Товарищ маршал!»
(Отец и шизофренические времена)
Победившая революция помолодила моего отца на год. В 1918 году так называемая советская власть ввела григорианский календарь вместо юлианского. И пятилетний малыш, которого мама родила 20 декабря 1912 года, внезапно оказался рожденным 3 января следующего года. Так начались шизофренические времена.
Я-то всегда гордился тем, что отец родился в начале года. Поскольку сам увидел свет в конце года, и у меня были в связи с этим проблемы в школьной жизни. А тут оказывается, что отец — такой же аутсайдер.
Впрочем, по всем официальным документам он родился именно в том самом тучном и самом успешном году Российской Империи. И он всю жизнь носил на своей личности имперскую печать: силен, умен и — недоверчив.
Сын инженера — специалиста по паровым котлам — и преподавательницы гимназии Вадим Пономарёв был третьим ребенком в семье, но первым мальчиком. И уже с ранних лет показал все задатки будущего мужчины. Он занимался теннисом, который тогда назывался лаун-теннисом и который еще не был объявлен буржуазным видом спорта в отличие от глубоко пролетарского футбола.
Поскольку Иван Григорьевич Пономарёв по велению профессии часто переезжал с места на место, то Вадик недолго задержался в родном Омске. И в школу пошел уже в Новосибирске. Там же он и совершил свои скромные спортивные подвиги: выигрывал зоны, первенство района, первенство города. И, наверное, играл на первенстве области. Думаю, что более глобальных соревнований в те времена просто не было.
Впрочем, именно в двадцатые годы Вадик начал показывать зубы в будущем деле своей жизни — инженерной науке. Мальчик хорошо понимал математику, физику, химию. Как-то класс писал контрольную по математике. Думаю, что это было начало тридцатых. Преподаватель (а в те годы предметники были еще все старой царской школы) дал, по его мнению, сложную задачу. Не удивлюсь, если урок был спаренным. И вот все соученики сидят, корпят. А Вадим Пономарёв минут через 20—30, а может быть, и через 15 подходит к столу учителя и сдает работу. Мол, все сделал. Специалист увидел пять строчек решения и возмутился: «Да разве так надо делать!» Схватил лист бумаги, и посыпались строчки: «Вот так, вот так и вот так! Теперь вы поняли? Идите и переделывайте!» А Вадим Пономарёв спокойно отвечает: «Посмотрите, ответ у вас такой же, как и у меня. А путь решения у меня значительно короче». Преподаватель отпрянул от удивления и, возможно, уронил пенсне. Потом прослезился, обнял ученика и умиленно проговорил: «Большому кораблю — большое плавание!»
И плавание это началось после восьмого класса. Это был, скорее всего, 1928 год. Вадим поступил в Автомеханический техникум. Какие в те годы были автомобили? Да тех же марок, что и сейчас: «Форды», «Рено», «Мерседесы», «Фиаты»… Отец, от которого я произошел в его 40 лет и который был вынужден расстаться с моей матерью в мои 11, рассказывал мне, с каким наслаждением он выполнял свое первое задание: мыл детали двигателя в керосине. Техника — это было его! Дело на всю жизнь…
Правда, после окончания Автомеханического техникума Вадим Пономарёв поступил вовсе не в автомобильный институт. Рискну предположить, что в Советской России в 1931 году таковых еще не было. Поступил он в Горный институт. И, если не ошибаюсь, в городе Новосибирске, или же в Томске. Правда, на механический факультет. И стал в итоге Вадим Пономарёв инженером по оборудованию шахт и приисков.
И тут Вадиму Пономарёву повезло. Ему вообще в жизни везло часто. Аккурат к окончанию Горного института шизофреническая власть стала разгонять всех старых, с еще царским опытом, специалистов. Знаменитое «Шахтинское дело», когда в городе Шахты группу «буржуазных» спецов обвинили во всех смертных грехах. И далее со всеми остановками по всем городам и весям тщательно и безжалостно выявляли «вредителей» с дореволюционным инженерным стажем. Зато молодым инженерам с советским дипломом давали зеленую улицу: «Вакансии как раз открыты — то старших выключат иных, другие, смотришь, — перебиты».
И стал молодой технарь начальником над золотыми приисками в Восточной Сибири. Скорее всего, это случилось в 1937 году. Вадиму Пономарёву было 24 года. А если это случилось в 1938-м, то ему было целых 25 лет. А Сибирь тогда была нетронутым местом. Ездил молодой начальник вовсе не на «Форде», а на гусёвке.
Гусёвка — это русская тройка на сибирский манер. Из-за узости местных дорог в гужевые сани лошадей заправляли нос в хвост. Первым к саням ставят мощного коренника, который, по утверждению отца, шел быстрым шагом; второй впрягали среднюю лошадь, которая шла крупной рысью; а спереди — легкая, которая, как говорил отец, «шла махом».
Отец был еще и талантливый пианист-самоучка, самодеятельный композитор. Он сочинял фортепьянные пьесы, хотя не знал ни одной нотной закорючки. Одна из его фортепьянных пьес так и называлась — «Гусёвка». На лошадях были колокольца — «шеркунцы» по-сибирски. Вот на этом и была построена пьеса. Сначала тройка стоит: колокольца едва позвякивают, когда лошади трясут шеями. Потом гусёвка трогается, и перезвон колокольцев начинается более четкий и ритмичный. И, наконец, тройка выходит на крейсерскую скорость: колокольца звенят во всю ивановскую. Коренник бежит своим быстрым шагом и звякает колокольцем низкого тона, средняя на рысях звенит сопрано, а первая легкая лошадка раскалывает свой звонкий дискантовый колокольчик отчаянным стаккато. Все это выходило из-под пальцев моего отца, пока он жил с нами. Наверное, эти горячие юношеские воспоминания о гусёвке повлияли на то, что он — офицер автомобильных войск — не любил автомобили и их никогда у него не было в личном пользовании.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: