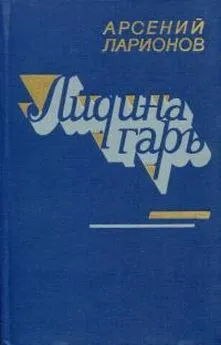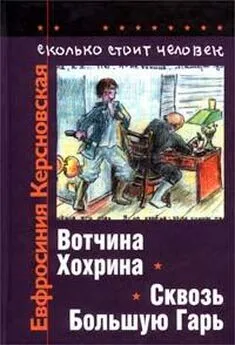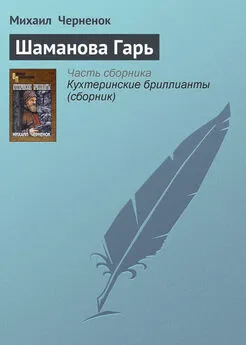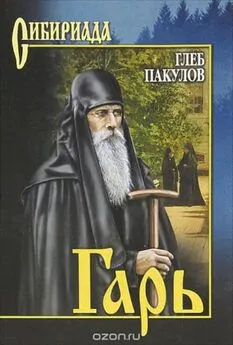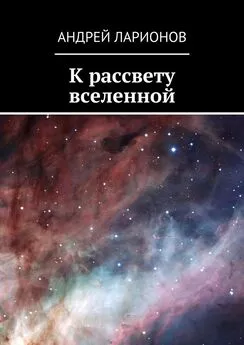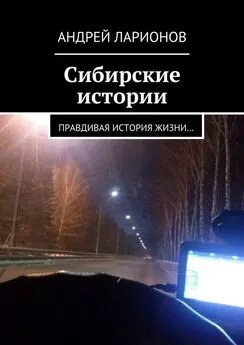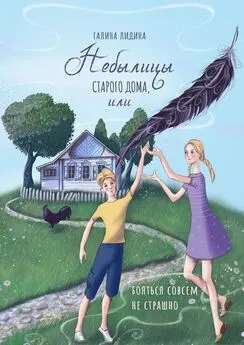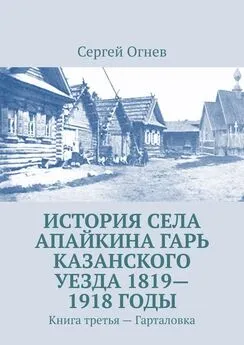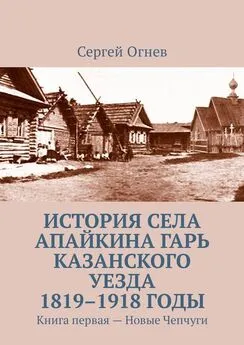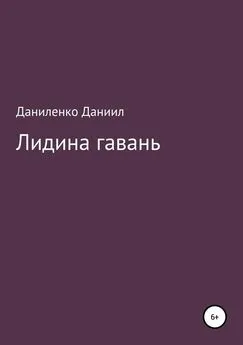Арсений Ларионов - Лидина гарь
- Название:Лидина гарь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Арсений Ларионов - Лидина гарь краткое содержание
Лидина гарь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Все дни после Засулья, пока я жил на мельнице, Селивёрст Павлович был занят какими-то своими мыслями. Подолгу молчал, погруженный в книги, которые остались от Шенберева, что-то сосредоточенно записывал в толстую амбарную книгу, почему-то хранившуюся в тайнике. Хотя в доме его все было на виду, открыто и ничего не пряталось. Уходя в деревню, он даже мельницу никогда не закрывал на замок. «Мало ли какая заблудшая душа потеряется, все спасение… В лесу живем, чужих не бывает… А кто с дурным намерением придет, его и замки не удержат…»
В конце недели он отвез меня в Лышегорье и, не задерживаясь, вернулся на мельницу.
Начались тоскливые дни учебы, именно начальные классы оставили у меня в памяти такое чувство. Учительницы менялись каждый год, совсем молоденькие, сразу же после педучилища, ничем толковым они увлечь не могли, жизнь за стенами школы была интереснее, сложнее, разнообразнее, а школа была чем-то принудительно-обязательным. К тому же жизнь взрослых мне была ближе и понятнее, чем заботы ровесников. Еще с тех, совсем ранних, лет рядом со мной всегда был зрелый, умный человек. Сначала — дедушка Егор Кузьмич, потом — Селивёрст Павлович, Афанасий Степанович, Тимоха…
Вот на эту зиму, первую после смерти Егора Кузьмича, ближе всех оказался Афанасий Степанович Полденников. Человек он в Лышегорье — новый, приезжий. Работал колхозным конюхом и был близким другом Егора Кузьмича и Селивёрста Павловича.
Я чувствовал, что со смерти Егора Кузьмича для меня начинался новый круг жизни, настолько остроосознанно я воспринимал пережитое за последние месяцы и связанное с жизнью и смертью дедушки Егора… Все прошлое как бы отступало, давая дорогу новым впечатлениям, переживаниям, новым чувствам и новым, не по возрасту ранним, человеческим открытиям и испытаниям.
…После школы, забросив домой книги, я бежал на конюшню к Афанасию Степановичу и пропадал там целые вечера. Помогая ему разносить сено по кормушкам, гонял лошадей к колодцу на водопой. Хлопотал, поспевая за Афанасием Степановичем во все углы конюшни.
А он приветил меня, был разговорчив, обсуждал вслух всякие деревенские заботы, находя во мне терпеливого слушателя… Я же готов был на всё, лишь бы побыть лишний час возле лошадей.
Сам Афанасий Степанович очень любил лошадей и берег их. И в бережливости этой был требователен до невероятности. Если кто-нибудь из колхозников возвращал лошадь с натертыми плечами, то назавтра виновнику предстояло объясняться с председателем. Такую неистовую привередливость колхозники относили к чудачествам Афанасия Степановича и даже посмеивались над ним, однако председатель колхоза поддерживал его всячески и нередко наказывал виновных.
Люди ворчали на конюха, но не обижались. И уж в следующий раз сами без лишних слов затягивали потуже подгузник, хомут, чересседельник. А когда они это делали, то получалось, что и лошадь лучше работала.
Афанасий Степанович был мужиком тихим, работящим, с лошадьми разговаривал необыкновенно ласково, так что даже самые измученные за день мерины мягко улыбались, будто счастливая радость освежала их усталые глаза…
Селивёрст Павлович и Егор Кузьмич любили Афанасия Степановича за спокойный нрав. Он никогда ни на кого не накричит, лишнего слова, злобливого, никому не скажет, всегда с умом, всегда с открытым сердцем к любому человеку… А люди находили, что природа у них у всех троих была одна — крепкая, здоровая и добрая.
Афанасий Степанович был из волжских середняков, из-под Сызрани. Крестьянствовал в деревне Кашпировка, и, видно, неплохо крестьянствовал. А в начале тридцатых годов не по своей воле оказался у нас на Мезени. Поначалу жил обособленно. А потом по хворости своей приехал в Лышегорье — показаться врачу. Было это перед самой войной.
Вот тогда-то дедушка и попросил Селивёрста Павловича пустить на постой Афанасия Степановича. Мол, вроде бы дом-то также пустует, Селивёрст Павлович большую часть времени на мельнице проводил, нельзя было сказать, что постоянное общение они имеют. Тот поглядел-поглядел на хождения Афанасия Степановича, да и, махнув на все рукой, позвал его к себе.
Вскорости как Афанасий Степанович поселился у Селивёрста Павловича, дедушка Егор склонил председателя сельпо, несмотря на все его отговорки, взять Полденникова на работу. Так Афанасий Степанович стал ночным сторожем у сельмага, а потом конюхом на конюшне сельпо.
А как только оказалось, что конюх он редкий, председатель колхоза переманил его к себе и, не принимая в члены колхоза, держал его по найму.
Афанасий Степанович часто бывал у дедушки. Здесь познакомился он с Марией Кузьминичной, его младшей сестрой, когда-то девочкой еще сидевшей у постели больного Селивёрста Павловича. Муж ее погиб в первые месяцы войны, и осталась она одна с тремя дочерьми. А скоро Афанасий Степанович съехал с постоя от Селивёрста Павловича и поселился в доме Марии Кузьминичны. Сначала вроде бы тоже на постой, хотя ни для кого уже не было секретом, что живут они с Марией Кузьминичной одной семьей, доброй и заботливой. Видно, уж не чаял Афанасий Степанович дождаться того благодатного дня, когда он сможет вернуться к своим детям на Волгу…
За целую зиму, постоянно пропадая на конюшне, я настолько пообвык, что весной Афанасий Степанович позволил мне даже помогать ему, когда он принимал роды у кобыл. Ожеребились они вовремя, без больших хлопот и волнений. Жеребята были здоровые: одни — послабее, другие — покрепче. Одни — с первого дня с норовом, другие — еще полусонные после долгого ожидания света белого. Но все пригожие, веселые и с желанием жить. Оставалась неожеребившейся лишь одна кобыла Линька — последняя в лышегорском табуне из знаменитых голицынских лошадей. Три века назад князь Голицын, сосланный в Красногорский монастырь и много лет проживший на Севере, выписал из Москвы лошадей со своего конезавода. И занялся выведением породы, приспособленной к условиям нашего сурового края, лошадей быстроногих, крепких в долгой езде по неукатанным, рыхлым, снежным дорогам. Скрестив своих породистых жеребцов с местными кобылами, он вывел породу «мезенок», лошадей славных и сильных. Времени с тех пор много прошло, и порода «мезенок» почти выродилась лишь осколки ее редко, но попадались.
Афанасию Степановичу очень хотелось иметь от Линьки жеребеночка, чтоб удержать породу голицынских лошадей, продолжить их добрый род.
Около неожеребившейся кобылы, боясь упустить жеребенка, мы с Афанасием Степановичем дневали и ночевали. Он беспокоился, не хворь ли какая напала, что Линька с родами так задерживалась. И послал меня к участковому ветеринару: «Авось дома захватишь?! Так зови его посмотреть».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: