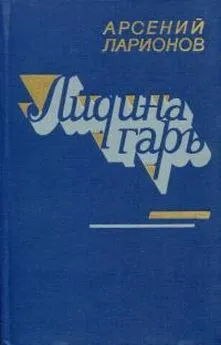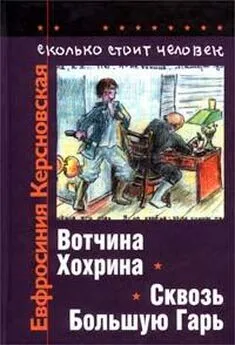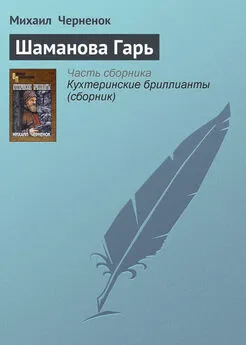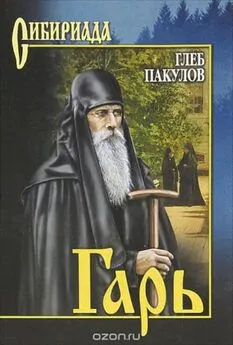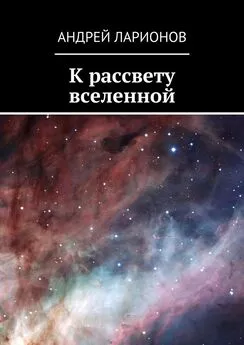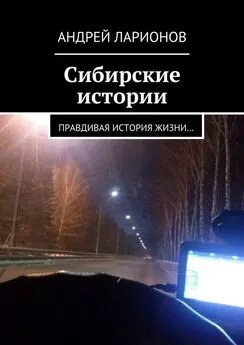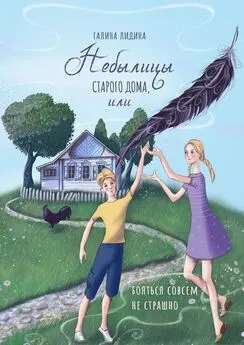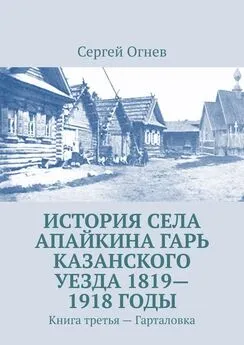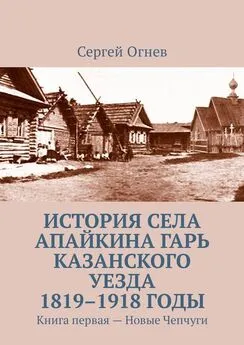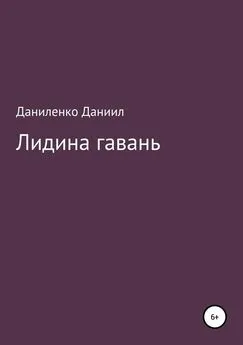Арсений Ларионов - Лидина гарь
- Название:Лидина гарь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Арсений Ларионов - Лидина гарь краткое содержание
Лидина гарь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Картошины мама промывала, что-то выбирала, месила, прибавляла чуть-чуть муки, подолгу держала в печке, и получались вполне съедобные лепешки. Мы их называли «гнилушки», но ели, в школу с собой стыдливо не брали, терпели — в школе не так остро, как дома, чувствовался голод, и время там обычно проходило скорее, незаметнее.
С «гнилушками» кое-как скоротали недели две. Думали, что на май карточку наверняка вернут. Но весна запаздывала, распутица продолжалась, Селивёрст Павлович по-прежнему был отрезан речками, и мы снова остались с пайком в полкилограмма хлеба.
Я мучительно думал: «Почему Евдокимиха лишила карточки именно нас?» Говорил об этом и с Афанасием Степановичем, и с Тимохой, они только разводили руками, тоже недоумевая. Но пойти выяснить, что и как, почему-то никто не решался. Я жалел маму, брата, себя. Обидно было, что мы совсем беззащитны. И возникало чувство настороженности, несогласия. В конце концов, набравшись смелости, не сказав ничего маме, я пошел вечером в сельсовет. Выждал, когда Старопова осталась одна, и молча встал у порога, негромко поздоровавшись.
Она что-то торопливо писала и, казалось, совсем меня не замечала. Я решил не мешать, стал внимательно оглядывать ее кабинет — тем более что был я в нем впервые.
Кабинет, по существу, был пустой. Голые, давно крашенные стены, немудреный стол без ящиков, небольшой сейф на табуретке в углу, несколько стульев, сколоченных на скорую руку, да застекленный в верхней части старинный книжный шкаф, очень добротный, резной, видно, из раскулаченных домов — Михея-лавочника или Тихона Бозуря (они только и могли в нашу глушь завезти такую роскошь из города). Я удивился, увидев, что шкаф этот закрыт на маленький привесной замочек. «Странно, у нас в школе книжные шкафы на замки не закрываются. А тут?!»
На полках стояли тонкие книжонки и брошюры, лишь на двух верхних — вперемежку — были темно-коричневые тома сочинений Ленина и Сталина — такие же, как на мельнице у Селивёрста Павловича. Там я их неоднократно держал в руках, подавая Селивёрсту Павловичу, когда он на выбор что-нибудь читал жонкам и мужикам, собиравшимся на мельнице осенью в дни размола зерна. Чаще других почему-то, по общей настойчивой просьбе, он читал заключительные главы статьи Ленина «Очередные задачи Советской власти», где речь шла о смелой и решительной власти — диктатуре пролетариата. И сколько раз я бывал при этом чтении, всегда замечал, что слушали его люди с большой заинтересованностью, будто в том, услышанном ими, была высшая правда, доселе им не известная…
— Тебе что, мальчик?.. — добрым, теплым голосом неожиданно спросила Анна Евдокимовна, резко подняв голову от стола.
— Мне нужна карточка, — тихо, неуверенно пробормотал я.
— Какая карточка? — удивленно переспросила она.
— Хлебная, — ответил я подавленно.
— Хлебная? Но это дело взрослых. А ты чей?! — Она пристально посмотрела на меня. — Что-то не припомню, хотя лицо знакомое.
— У нас все друг друга знают в лицо… Аншуков — я, внук Егора Кузьмича.
— Ах, как же, как же, помню, на конюшне Полденникову помогаешь. — Она встала из-за стола, подошла ко мне вплотную и, глядя в глаза, тихо сказала: — Значит, вам нужна хлебная карточка? Хорошо. Есть-пить всем надо, мальчик. Только чем же я тебе помогу? Сельсовет об урожае думает, силы пахарей бережет, им надо помочь. А ты уж как-нибудь.
Но при ровном, спокойном голосе такая злоба, такая беспощадность была в глазах ее, будто я причинил ей непоправимо глубокую душевную боль.
— Но разве наша карточка накормит пахарей? — все-таки спросил я.
— С миру по нитке. Накормит. А ты иди домой, расскажи, мол, отказала Анна Евдокимовна. И пусть тебя больше не подсылают, есть у вас радетели подобрее меня, и ключик к ним полегче, у тетушки твоей в руках, — говорила она сдержанно, настойчиво вглядываясь мне в глаза, и словно желала внушить что-то свое и, видно, самое важное, но не хотела договаривать вслух.
— Вы же не имеете права лишать нас карточки — это незаконно, придет Селивёрст Павлович, он разберется, — выложил я свой последний, как мне казалось, самый веский довод.
— Его-то я и жду давно, но вот никак не дождусь, чтобы он тетушке-то твоей хвост слегка прижал, больно вольничать стала без мужа. Что же вы до сих пор не сообщили ему, что вас лишили карточки? Зря так долго ждете, зря… Мать твоя, видно, ради подружки детей голодом морить готова, но уж тут моей вины нету, мальчик.
Она открыла дверь и осторожно подтолкнула меня к выходу…
Я ничего не сказал маме, но о разговоре в сельсовете думал постоянно, и какое-то гнетущее предчувствие не покидало меня. Почему ей надо было столь грубо и злобно говорить со мной? И потом, сообщите Селивёрсту Павловичу, она, видите ли, ждет его… И все больше укреплялось предчувствие, что, видно, неспроста она с нами так обошлась. Но при чем тут Антонина?! При чем?! Однако «ключик в руках у тетушки твоей…». «Надо идти, пожалуй, к Селивёрсту Павловичу», — решил я про себя.
Селивёрст Павлович чувствовал, что последние зимы он пережил тяжело… «Все пошло на душевное расстройство после смерти Егора, — думал он. — Потом эта история с появлением председателя сельсовета, а следом и председателя колхоза. Что-то сразу их не приняли, так с нашими не бывает. Надо поговорить, поближе поглядеть, разузнать, что они за люди, чего в жизни хотят… Старопова, судя по всему, осторожничает, чего-то выжидает, а Ляпунов, пожалуй, учитель, в земле человек малосмыслящий…»
Но чувствовал он, что не только эти перемены его беспокоят. В тайниках сознания его постоянно тлел уголек того разговора в Засулье с Варфоломеем Васильевичем об Аввакуме. Мысль оказалась неугомонной во времени, неудовлетворенной в молчаливом, затянувшемся споре с Клочковым. Он и раньше испытывал томительную потребность поговорить с толковым, знающим человеком, вылить душу, умерить сомнения. Но не было вокруг такого собеседника, владеющего и большими книжными знаниями, и пониманием глубоким аввакумовского учения. А ему хотелось непременно добраться до сути огнепального человека.
«Теперь уж и с Варфоломеем Васильевичем не поговоришь, собирался еще раз наведаться, а жизнь его и откатилась…» Умер он этой зимой, в самую крещенскую стужу. Хорошо, оказался в Лышегорье, а не в Выселках. Как бы там бабы выкопали ему могилу — в малодворке после войны — ни одного мужика. Ни один до деревни не дошел. А в Лышегорье у Варфоломея Васильевича было много родни и много слез… Дали знать и Селивёрсту Павловичу — он приехал попрощаться. А проводы Варфоломея Васильевича вернули вновь к разговору в Засулье…
После поминок на вечеру он отправился к Аввакумову кресту. По разъезженной дороге дошел до пригорка, высоко засыпанного снегом, и, может, впервые в жизни, прожив возле креста более шестидесяти лет, внимательно, даже придирчиво его осмотрел… Ведь это дерево поднимал и освящал сам Аввакум, оно хранит прикосновение его рук, дух его хранит…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: