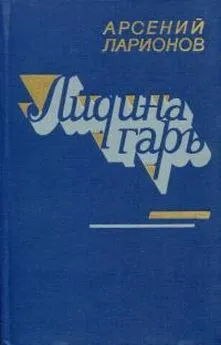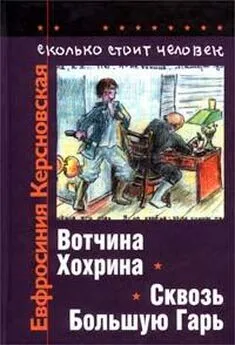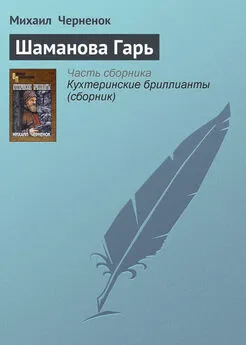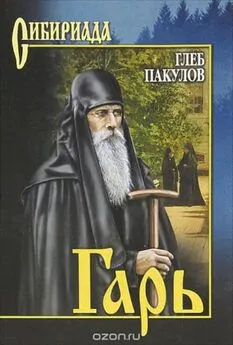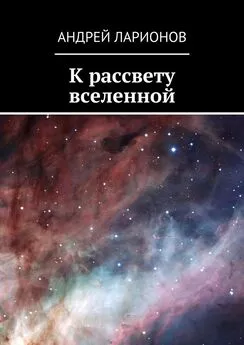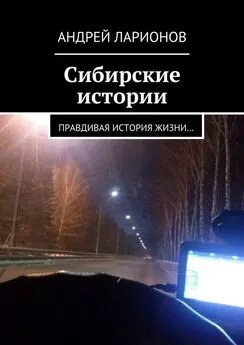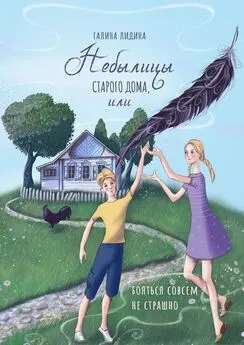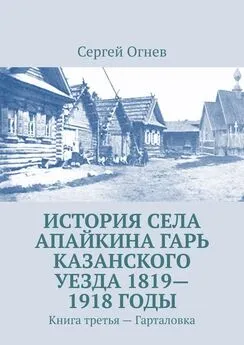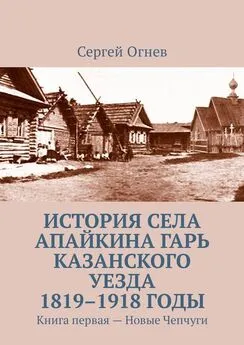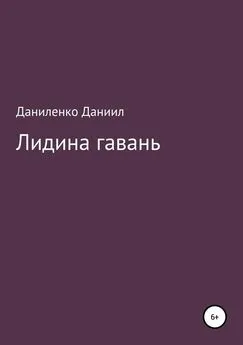Арсений Ларионов - Лидина гарь
- Название:Лидина гарь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Арсений Ларионов - Лидина гарь краткое содержание
Лидина гарь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Голосище у него был густой, слова-то кричал горлом. Слово знавал такое, говорят, жгло оно, что там жгло, рану кровоточащую оставляло.
— А по писанию жизни его, им самим составленному, от страданий его до сих пор содрогаешься. Может, его страдания и повыше Христовых. Так народ наш судит. У того — часы боли нечеловеческой, а у Аввакума — вся почти жизнь его прошла в муках страшенных. А смерть его с чьей из святых на Земле сравнить можно…
— По святости жизни прожитой, по праведности ее, по мукам ради людей принятым — Аввакум первый святой на Земле. Потому как ни перед чем и ни перед кем не дрогнул. Сам из плоти человеческой, а не дух святой, слетевший на Землю.
— Вот так, может, речи мои еретические. Но я вам по уму говорю, а не по вере. Вера моя со мной. А жизнь и смерть Аввакума выше меня смертного, она с самим народом наравне стоит. Таких людей у народа много не бывает за целые тысячелетия — один, два, от силы три…
— А как смерть принял, то особый рассказ. О том — большая народная память. Я еще подростком был, когда матушка мне о смерти его рассказала. Содрогнулся я, и душа моя обмерла, со страху спасения нигде не было, во снах кричал, пожар видел…
— Сказывали, поставили их в сруб деревянный, и горели они огнем, дым черный высоко вздымался, а их видать было в дыму, тела светились, огонь их не брал. Так до конца огня и не пали. А как пеплом древесным посыпать стало, тела в землю ушли. Души у них праведные, и человеческий суд им ни во что.
— Как сожигали их, не затучились небеса, не закрылись для глаз праведных, а гремело, свет небесный до Земли, как стрела палящая, падал. Страх был для сожигателей. А страдальцам — утешение, не одни горят, огнем небеса прожигает страдание ихнее.
— Аввакум Петров от несчастного народа шел, и сам был без доли. За него шел без страху. К нему пришел на вечную память. Север наш, наши люди укрепили в нем правоту. Он поверил им и стоял до конца. Нам и рассказ о нем вести, вестью вещей сердца людские пробуждать.
— Был я в Пустозерске, на Пусто-озеро глядел. Только оно и помнит его глаза, его огонь. Остальное все за два века изменилось. Поклонился тому месту, где Аввакум-учитель вместе с сотоварищами своими в землю ушел. Стоят на том месте четыре креста — памятник каждому из четырех сожженных мучеников-страстотерпцев. А земля возле них черная, на том месте третий век и трава не растет, пепел как живой ворошится.
— Наше место — Цильма — памятно. Он был здесь, когда его везли в Пустозерский острог. Антипа-скиталец жил тут один-одинешенек. С Аввакумом у него разговор состоялся. После той встречи единоверцы аввакумовские возле Антипа собираться стали, от того времени скит пошел. А когда его разорили по царскому указу, выселок стал — людей ссыльных на поселение сюда повезли.
Аввакум знал, что тут единоверцы его, да рядом с Печорским трактом, и грамотки свои святые слал в Цильму, а отсюда они в Россию уходили, через грамотки те и знаменит он стал.
— Вот и все, как мог, сказал. За краткость не обессудьте».
Селивёрст Павлович был неожиданно взбудоражен, оглушен, потрясен, столь сильными, необыкновенными казались ему эти слова и мысли старца Ивана Антиповича. И тяжесть, давно томившая все его существо, спала с души. «Жертвенность ради народа, вот чего не принимал Клочков в Аввакуме. Как я не понял этого раньше».
Он отодвинул записи Шенберева, решил заняться хозяйством, подумать обо всем, что он узнал, залпом проглотив несколько страничек. Но чем бы он ни занимался, его снова влекли мысли Шенберева об Аввакуме. Он не сомневался, что Дмитрий Иванович не случайно оказался в Выселке, значит, какая-то настойчивая мысль его преследовала. Однако Селивёрст Павлович сумел справиться с собой и уже в сумерках снова открыл листочки Шенберева. Случайно сразу же наткнулся на удивительное место. Это уже писал сам Шенберев.
«Если следовать формуле В. О. Ключевского о назначении интеллигенции — понимать окружающее, действительность, свое положение, своего народа, то Аввакум — наш первый гений и первый русский интеллигент из народа. Его борьба с Никоном и Алексеем Михайловичем открывает личность яркую, небогобоязненную, открыто выступающую не за идеалы христианства, а за истинную веру своего народа, который он отделял от всего остального христианского мира и русских церковнослужителей во главе с Никоном.
Аввакум открывает славный ряд великих русских интеллигентов, из коих следующий взойдет лишь через столетие и опять же из народа, опять же из этих северных свободолюбивых мест — Михайло Ломоносов… И только Пушкин ярким гением своим примет эстафету народных мыслителей, чтобы потом уже долгое время она оставалась привилегией дворянства и разночинцев.
Но Аввакум, как первый русский мыслитель, писатель, интеллигент, как могучий страстотерпец и мученик за народные идеалы будет всегда захватывать наше воображение, наш ум, наши чувства».
Селивёрст Павлович вновь отодвинул шенберевские листки. Громадная фигура Аввакума надвинулась на него во всем своем немыслимом многообразии свершений, талантов, помыслов. Он только теперь начинал понимать то, что защищал много лет назад в споре с Клочковым стихийно, по внутреннему чувству. Сам Аввакум во всем своем естестве превосходил все его представления.
«Если все это знал о нем Шенберев, — мучительно думал Селивёрст Павлович, — то не мог не знать хоть часть этого Клочков?!»
Ему неожиданно стало больно, грустно, он почувствовал себя старым, уставшим человеком, перед которым обидно поздно открылась важная человеческая мысль, живущая в мире неусыпно неутомимой жизнью триста лет…
3
К концу мая вода шалая на речках спала и плотники навели висячие мосты. Не дождавшись, когда Селивёрст Павлович сам придет в Лышегорье, я попросил маму отпустить меня на мельницу одного. И рано утром отправился в дорогу. Но по пути решил еще заглянуть на конюшню к Афанасию Степановичу.
— Чего это тебе не спится? — улыбнулся он, увидев меня.
— Я к дедушке иду, на мельницу.
— Один?! — озадаченно спросил он.
— Один.
— Измаялись вы, чай, без него, — он погладил меня по голове и привлек к себе. — Ничего-ничего, все образуется, вот увидишь. Придет Селивёрст Павлович, он покажет Евдокимихе, как самоуправствовать, перед ним-то она уж наверняка дрогнет. Это ей не с жонками воевать. Жаль, что я вам не защитник, сам, чай, без прав.
Он вздохнул тяжело и горько, видно, по-прежнему близко к сердцу принимал свою стесненную жизнь, хотя и не говорил никогда об этом.
— Ну да, чай, все образуется. — И опять тепло улыбнулся, потрепал меня за вихор на голове и прибавил сочувственно: — Были б проезжие мосты через речки, дал бы я тебе Метелицу, и махнул бы ты, как ангел, — туда и обратно. А пешком-то далеко, за день не обернешься. Чего из дружков кого-нибудь не позвал, все веселее?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: