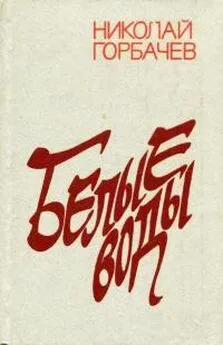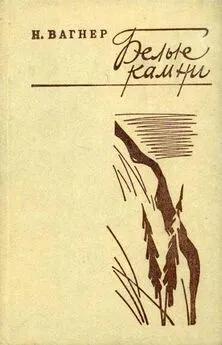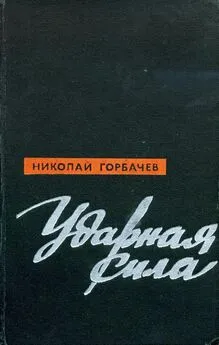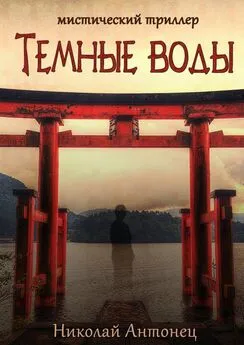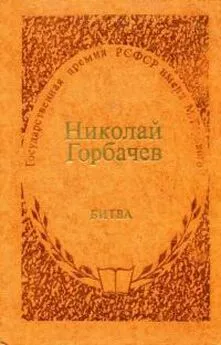Николай Горбачев - Белые воды
- Название:Белые воды
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Горбачев - Белые воды краткое содержание
Белые воды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Выбитый из нормальной колеи, непривычный к безделью, особенно тягостному сейчас, когда вагоны, загнанные в тупик, стояли уже неделю, Садык Тулекпаев нервничал, корил себя за то, что согласился на эту поездку, запоздало прикидывал возможные варианты — кто бы мог вместо него поехать, и, забывшись, даже принимался мысленно спорить, доказывать, будто еще не было ничего с ним решено, будто он не здесь, на узловой станции, далеко от Свинцовогорска, а там, на заводе, в партбюро. После обнаруживал, что впустую тратит душевные силы, притихал угнетенно, замыкался на время. Часто воображение его распалялось картинами близкими, возникавшими ярко, до рези в глазах: он на горновой площадке, пробил шуровкой лётку, выплеснулось бело-желтое гудящее пламя, ослепляя все вокруг, и только рядом, справа, под кошмяной панамой, щурится лицо Федора Макарычева, а то белозубо сверкнет — старший горновой, выставив, точно щит, жесткую голицу, покачивает ею чуть приметно — явно доволен. Высвечивается лицо Митюрина — непропорционально маленькое, в чешуйках конопатин, а оттого, что голова его маячит на длинной тонкой шее, она кажется отделенной от жердястого, вихлявого туловища. Переборчато стуча сапогами по железной лестнице, скатывается колобком с верхотуры «бабий командир» Анфис Машков, — рябое лицо с въевшейся пылью от угля, шихты серо, одни белки лишь жгут округло, пронзительной синью, наскакивает на Федора Макарычева, дружка, распально, язык заплетается: «Чё, чё ты? Пошто задержка-от, пошто?!» А отпарится Анфис в баньке, исстегается веником, на карачках, в одури сползет с полка́, после отскоблится мочалкой — омыто, свежо зарозовеет его лицо, запоет Анфис про Ермака или «С вином мы родились, с вином и помрем…», так и замрет его душа в этом порыве. И тогда Глафира, если случается ей быть рядом, вся внутренне трепетно вскраснеется, затихнет у стола, и пальцы ее непроизвольно скользят по пуговицам кофточки, упрямо разъезжающейся на полной груди.
Плыли перед мысленным взором стократ виденные картины, будоражили, вздымали к сердцу приливные гребни, щекоча слезливо-чувственные струны, и Садык Тулекпаев, боясь расслабиться, отсекал поток, и все же успевало в самый последний момент возникнуть, будто крик души: «Как? Как они там без меня управляются? Нормально ли плавят свинец?» И понимал, что вопросы эти вовсе не плод тщеславной мысли — будто без него им сложней и трудней, мол, не клеится, идет наперекосяк, — в сущности же крылась маленькая хитрость: адресуя вопросы к ним, своим товарищам, он имел на самом деле в виду себя, — именно к а к он еще выдерживал без н и х? Знал: ему было проще, легче спрашивать их, а обрати он вопросы к себе, и кто знает, жалость, слезливость — эти струны, и без того держась на пределе, сдюжили бы, не сдали? Садык Тулекпаев боялся этого, не желал растравлять себя, утратить форму.
В теплушке для сопровождающих потрескивала буржуйка, с ее малиновых, пышущих жаром боков осыпалась на жестяной поддон рыжая окалина, в черном закопченном чайнике, возвышавшемся на конфорке, вскипала вода, и Садык заваривал кипяток сухими травами — целую торбу Бибигуль набила ему в дорогу. Пил чай до изнеможения — хандру, мрачные накаты расплавляло, выводило вместе с росяным, обильным потом, и Садык вставал с чурбака, на котором сидел, накидывал нагольный полушубок, спрыгивал из теплушки в притоптанный, усеянный крупчатой копотью снег, шел к «своему» вагону, оглядывал замок, пломбу на дверях, сгибаясь, подлазил под сцепку, осматривал вагон со всех сторон, даже ощупывал колеса и буксы — надежно ли, на месте ли все? Постояв, вновь возвращался в теплушку. И ночью на нарах спал некрепко, вставая, подбрасывал в печурку полешки, отводил дверь на роликах осторожно, чтоб не разбудить товарищей, покидал теплушку, ежась со сна, — и все повторялось: скрупулезно осматривал вагон, обходил в темноте и весь состав, пока еще небольшой, прибавлявшийся медленно, возвращался, сдержанно кряхтя, устраивался на нарах, укрывался полушубком.
Под шерстистой полой полушубка, щекотавшей небритую кожу лица, надышав в парной темени, Садык лежал с открытыми глазами — не спалось. Только что вернулся в теплушку, и сон не шел: вынужденное безделье, бесплодное ожидание на узловой перегруженной станции больше угнетали, разрушали его душевный лад, — с открытыми в темноте глазами лежал Садык. Но иногда, будто где-то там незримо отодвигалась заслонка, — накатывала, обступала невидимо вся жизнь. И сейчас он забылся, ему даже в какой-то момент почудилось, будто его мягко и неприметно перенесли в далекое время, понудили все пройти вновь.
…Прошлое и на Беловодье отступало непросто — сопротивлялось, цепляясь за всякую «соломинку», но и необратимо повергаясь в пучину истории; все меньше оставалось у него иллюзорных надежд на свое победное возвращение под колокольный благовест и шествие с хоругвями, под пение усладительных торжественных псалмов, — кормило российского корабля было решительно переложено на новый, главный румб.
Перемены коснулись и Иртышского пароходства: исчез, будто испарился, всесильный Злоказов; одни поговаривали — подался на Восток, упрятался под крылышком японских интервентов, кого покамест не вымела метла народа с русской земли; другие уверяли — улепетнул Злоказов за кордон, аж в Новый свет, влился, пополнил мутное, зловонное болото эмиграции. А пароходством на месте руководили люди, выдвинутые из народа, из тех, кто ломал старое и был полон решимости утвердить и построить на его месте новое, — перекрашивали пароходы, прежнюю собственность Злоказова, меняли их названья — вместо имен архангелов и всяких библейских святых на бортах тщательно выписывали невиданные и удивительные: «Марсельеза», «Товарищ», «Парижская Коммуна», «Роза Люксембург», «Красногвардеец»…
— Голод, сынок, идет… И смерть нас ждет всех. Шайтан, сынок, повадился к нам: отца унес, на младшего твоего брата черную болезнь призвал. Увези нас, увези, сынок, в Солонцовку!
«Ай, бала, бала!..» — с грустной напевностью, как укор прошлому, исторгается из груди Садыка Тулекпаева, но слова эти он не произносит, лишь будто звук разбитого стекла вырывается вздох.
Балгын без роздыху, в любую погоду, гудел в каменном ущелье. Осенью же в обложные долгие дожди, когда дымные тяжелые тучи сползали к самому подножью гор, возле которых курились, чернея и сжимаясь, деревянные пятистенки и мазанка Садыка, — вспухал, мутнел Балгын, сам шайтан, чудилось, переселялся в него: бешено ярился, клокотал, пугая утробным, как бы идущим из земли гулом, громовыми раскатами рушившихся оползней: И Садык Тулекпаев, оставаясь ночами приглядывать за известковой «курней», ждал в тревоге, немея: явится шайтан за ним, смоет холодным мутным накатом взбушевавшейся реки или накроет, раздавит каменным обвалом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: