Наталья Суханова - Искус
- Название:Искус
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Суханова - Искус краткое содержание
На всем жизненном пути от талантливой студентки до счастливой жены и матери, во всех событиях карьеры и душевных переживаниях героиня не изменяет своему философскому взгляду на жизнь, задается глубокими вопросами, выражает себя в творчестве: поэзии, драматургии, прозе.
«Как упоительно бывало прежде, проснувшись ночью или очнувшись днем от того, что вокруг, — потому что вспыхнула, мелькнула догадка, мысль, слово, — петлять по ее следам и отблескам, преследовать ускользающее, спешить всматриваться, вдумываться, писать, а на другой день пораньше, пока все еще спят… перечитывать, смотреть, осталось ли что-то, не столько в словах, сколько меж них, в сочетании их, в кривой падений и взлетов, в соотношении кусков, масс, лиц, движений, из того, что накануне замерцало, возникло… Это было важнее ее самой, важнее жизни — только Януш был вровень с этим. И вот, ничего не осталось, кроме любви. Воздух в ее жизни был замещен, заменен любовью. Как в сильном свете исчезают не только луна и звезды, исчезает весь окружающий мир — ничего кроме света, так в ней все затмилось, кроме него».
Искус - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Эх, ты! — сказала она. — Юрист безголовый! Неужели тебе непонятно, что отрицать надо всё?
— Но ведь в праздник все выпивают.
— Да тебе-то что за дело?
— Это же неправдоподобно — полная трезвенность.
— Кому нужна правдоподобность — бумажки нужны. «Нет» — и всё. Без всяких рассуждений. Из рассуждений всё можно выжать.
Ксения ночью рыдала в подушку от стыда и угрызений совести. Но дело было сделано. Помпрокурора перевели в другой район. Но она еще приезжала в Озерища проводить в армию Гену, с которого стараниями уважаемой в районе сестры сняли бронь. Рыдала курносенькая, как в день смерти Сталина.
Следователи и помощники в их районе вообще часто сменялись. Приехавший Фридрих — выпускник Ленинградского университета, демобилизованный летчик, отличник, едва избежавший назначения в Биробиджан, попал в Озерища. Еврей по отцу, русский по матери, он, чтобы сделать приятное отцу, записал себя евреем, и это сослужило ему дурную службу. Назван Фридрихом он был, конечно, в память об Энгельсе, его и звали дома, как Маркс Энгельса — Фред. Как-то Ксения ездила с ним в Ленинград, останавливалась у его родных. Сестренка, с восторженным визгом а ля Наташа Ростова бросившаяся ему на шею, сурово любящий отец, скупо обнявший сына, худенькая, нежная мама. Почти полное отсутствие декора в квартире — аскетизм тридцатых годов. Ленинградские интеллигенты. Сын — с кобурой на боку, в кирзовых сапогах — их восхищал: безоглядно сестру, нежно и грустно — мать, с легкой улыбкой — отца.
А в Озерищах Фридриха не любили. За те же самые кирзовые сапоги. За кобуру на боку. За то, что он еврей. Фридрих был вторым евреем в районе. Первый — ветеринар, тоже ходил в кирзовых сапогах и в плаще-непромокайке. Но ветеринару не помнили ни кирзовых сапог, ни еврейства. Может, все-таки дело было в кобуре? «Ряженый» — иначе за глаза Фридриха здесь и не звали.
— Сдается мне, девяносто пять процентов населения питают здесь ко мне стойкую антипатию, — говорил Фридрих Ксении. — Это естественно. Поборник законности всем неприятен, особенно если он активен. Активных вообще в народе не любят, в этом вы еще успеете убедиться. А кого любили? Народников любили? Больше не любили, чем какого-нибудь зверя-урядника. Христа любили? «Распни его!». Первых учителей? Стотысячников? Врачей, пришедших на смену шаманам? Комиссаров? Вам не рассказывали, как тут их живьем в землю зарывали? Вот так-то, подружка!
Ксения улыбалась. «Подружка» — это было еще одно прозвище Фридриха. Интересно все же, прав он, что его не любят, как не любят все новое, все активное? Или же просто люди любят тех, кто любит их, а не закон, идею, дело — даже если и закон, и дело для них же, для их детей?
— На войне, как на войне, подружка!
Это тоже была его любимая поговорка. Обо всем. И о том, что у него нет ни малейших бытовых удобств. И что нет времени даже для чтения. Что перенапряжен он и времени в сутках не хватает. И что не любят его и были вроде бы покушения на него. А впрочем, что же, может быть. Был же у них случай, когда лесник привлек к ответственности браконьеров, а его потом «встрели» и посадили об землю так, что он и двух лет после не прожил.
Они с Фридрихом, разговаривая, иногда подолгу засиживались. Фридрих был ровня ей. Работником он был, пожалуй, даже лучшим, чем она. Разговаривать с ним было интересно. Но и все. Возможно, она стала слишком озерщенкой, над ней тяготела здешняя насмешливая неприязнь к «ряженому».
Фридрих заводил разговор о Батове. Кто, собственно, этот Батов? Чем замечателен? Шею бычью имеет? Ростом выдул, огурцов много ел?
— А человечищи здесь действительно встречаются интереснейшие, — говорил Фридрих, как бы противопоставляя этих «действительно интереснейших» Батову.
И на несколько ревнивый вопрос Ксении, чем же так уж интересны эти «интереснейшие» — умны, что ли, очень? что вообще значит «умный» (все люди умные, мозг, собственно, у всех одного примерно веса, одного объема): «Делатели, вот что! В этой глуши работают вовсю, ищут, делают свое дело».
— Ах, ищут? Всё же, значит, еще и думают? — язвила Ксения.
— И хорошо думают, потому что по делу. Правда в действии — это продумано и проверено. Середины нет. Или ты действуешь, или ты ничто. Это факт, подружка.
Ксения подолгу стояла у окна своей адвокатской каморки, глядя, как по бугру дурашливо носится молодая собака, то наскакивая на улепетывающих со всех своих коротких ног уток, то просто припуская во всю прыть — задние ноги вперед меж передних — через поле. Черный судейский кот вертелся на спине и кувыркался. Воробьи налетали друг на друга и оглушительно чирикали.
Любовь с Батовым была в самом разгаре. Хорошо у них с Батовым было — нежно и чисто. А в глазах окружающих — наоборот. В поселке и вообще-то сплетничали много. А о тех, кто на виду, особенно. При этом, конечно же, ничего не значило, что стар и млад называли Ксению неизменно по имени-отчеству, на «вы» — так называли здесь всех, кто занимался непроизводительным, а значит почетным трудом. Но однако до романа ее с Батовым сплетни имели скорее сюжетный характер (так, «издаля», обсуждают любовные истории «высшего света»). Те сплетни даже льстили ей — в них, как-никак, она представала женщиной с прошлым, даже с детьми, а не такой недотепой, недоженщиной, какой умудрилась остаться в свои двадцать три года. И вот, на смену тем фантастическим пришли вполне конкретные здешние сплетни — кто-то, де, видел ее с Батовым в самом интимном виде на крыльце у Татьяны Игнатьевны, а швеи из промкомбината напротив окон Полинки опять же ясно видели, как Ксения с Батовым, а Полина со студентом — пара на кровати и пара на полу — рядом, при электрическом свете, занимались любовью. Ксения попросила передать швеям, что подаст на них в суд за порочащую, грязную клевету, прекрасно понимая, что никогда не сделает этого — это бы только распространило и увековечило сплетню. Судья успокаивала:
— Девушка — что травушка: не вырастет без славушки.
Что ж, Ксения ведь и не возражала, пока сплетни носили отвлеченный характер. Но откуда брались «очевидцы»? Откуда эта ненависть? Жестокость?
Как-то в командировке в глубинку была Ксения в большом, двухэтажном, раньше помещичьем доме у вдовы известного художника. Место просторное, на отшибе у деревеньки. Вокруг дома сад, рядом озеро. Но зимою все это было пустынно и холодно. Через весь первый этаж прошли они как через большой темный сарай с окнами, заставленными щитами от холодных ветров. На втором этаже окна были разгорожены. Но это тоже было — сарай не сарай, манеж не манеж — длинное, холодное помещение. И на всех стенах картины — такие же серые и блеклые, как просторы за окном. Только в самом торце дома отапливались две комнаты, и там наконец Ксения разглядела хозяйку, освободившуюся от платков. Не такая уж старая оказалась вдова известного художника, живущая в помещичьем доме трудной деревенской жизнью. С нею жила еще женщина — может, родственница, а может — поклонница покойного художника. В этих двух отапливаемых комнатушках огромного холодного дома напоминали они Ксении интеллигенток времен войны, умирающих у теплящихся печурок. О картинах мужа вдова разговаривать не стала, уловив, конечно же, что Ксения их не оценила. Зато с горечью и бессилием много говорила о судьбе сада:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
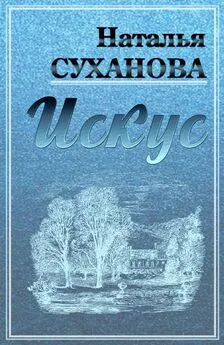






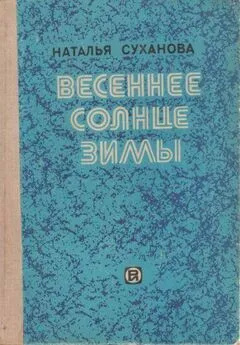
![Наталья Суханова - Вода возьмет [СИ]](/books/1143085/natalya-suhanova-voda-vozmet-si.webp)
![Наталья Суханова - Синяя тень [сборник рассказов : СИ]](/books/1143087/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s.webp)
