Наталья Суханова - Искус
- Название:Искус
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Суханова - Искус краткое содержание
На всем жизненном пути от талантливой студентки до счастливой жены и матери, во всех событиях карьеры и душевных переживаниях героиня не изменяет своему философскому взгляду на жизнь, задается глубокими вопросами, выражает себя в творчестве: поэзии, драматургии, прозе.
«Как упоительно бывало прежде, проснувшись ночью или очнувшись днем от того, что вокруг, — потому что вспыхнула, мелькнула догадка, мысль, слово, — петлять по ее следам и отблескам, преследовать ускользающее, спешить всматриваться, вдумываться, писать, а на другой день пораньше, пока все еще спят… перечитывать, смотреть, осталось ли что-то, не столько в словах, сколько меж них, в сочетании их, в кривой падений и взлетов, в соотношении кусков, масс, лиц, движений, из того, что накануне замерцало, возникло… Это было важнее ее самой, важнее жизни — только Януш был вровень с этим. И вот, ничего не осталось, кроме любви. Воздух в ее жизни был замещен, заменен любовью. Как в сильном свете исчезают не только луна и звезды, исчезает весь окружающий мир — ничего кроме света, так в ней все затмилось, кроме него».
Искус - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Жила директриса с матерью и сыном в небольшом домике. Та же русская печь, что и везде здесь, та же простая, добротная мебель, но были и письменный стол с уютной настольною лампой, и шторы, и книжные полки. Без той пустынности, которая отличала почти все дома здесь. Ксению покормили — картошка, грибки, капуста, как у всех тут, но и колбаска, и балычок, привезенные директрисой из Ленинграда.
Заснула Ксения сразу, едва легла, но скоро проснулась от стихов и мыслей. Директриса еще сидела за письменным столом, свет падал от ее лампы, и Ксения могла записать.
Говорил Гамлет:
Жить иль не жить?
Дышать иль не дышать?
Глотать ли соль горчайшего прибоя?
Костьми усталыми отрадно ощущать
и стук камней, и мерный ход покоя.
Конец всему на кромке тяжких вод?
С отхлынувшей водой отхлынет наважденье,
и тяжких дум пустое напряженье,
и мысли страстной безнадежный ход.
Все будет так, в отрадной из смертей,
в довольстве сил, в холодном сне покоя.
Но восстает сомненье вековое
И совесть — соль горчайшая солей.
Стонал Сизиф:
Устал считать прожитые мгновенья,
отсчитывая смерть наоборот.
О, сила неприметного теченья!
О, всемогущий Бог-круговорот!
Кто-то повторял на свой лад Екклезиаста:
Что ропщешь ты, так это блажь господня:
забудешь завтра то, что требуешь сегодня.
Лишь в забытьи ты вновь обрящешь Бога?
К забытому ведет забытая дорога.
Но было упорство в тысячный раз повторять однажды сделанный и как бы перечеркнутый, замкнувшийся в круг и повтор путь.
Не лги — упорствуй в заблужденьи,
трудись лягушкой в молоке,
в тысячелетнем прехожденьи,
иль мухой цепкой в кулаке.
Ход на Сизифовых камнях
всё пересилит — жизнь и прах.
Живи, плодись однообразно,
не ведай, что там впереди?
В однообразьи сообразном
закон внезапности блюди.
И дальше:
Зерну доверься, узаконь терпенье…
Когда над глыбою упорствует Сизиф,
терпению его Вселенная сродни.
Там, за вершинами вершин,
дай несвершимое свершить…
Когда Ксения проснулась во второй раз (уже утром), директор — умытая, розовая — сидела за столом, одной рукой управляясь с бутербродами и чаем, другой листая какую-то книжку.
Ксения так и не подготовила речи. Рассчитывала на то, что мыслей и материала много, что говорить она умеет, что две-три фразы для начала ею приготовлены. Но когда вошла в зал, полный голов, рук, плеч, смешков, тычков, переглядываний, топота, вскриков — сердце вдруг заколотилось, руки похолодели.
— Внимание, — сказала директор. И через паузу, тише и раздельнее. — Вни-ма-ние…
Еще два-три окрика, вглядывание в ряды — и всё смолкло. Обморочно Ксения поняла, что теперь уже е й говорить и что она совершенно ничего не помнит и не знает. В самом деле, на первых же строчках Маяковского, с которого она решила начать, чтобы не сбиться и выиграть время, она как раз и сбилась, задрожала голосом, и уже не то что говорить о продуманном вчера днем и ночью, — испугалась самой этой предательской необоримой дрожи голоса. Невозможно было вести этим жалким голосом какую бы то ни было беседу, но ведь невозможно было и не говорить. И она говорила, продолжала говорить, не слыша себя и пугаясь еще и этого: может, она вообще чепуху какую-нибудь городит или топчется на одном месте. Ни до каких Гамлета и Сизифа — она даже до мыши, сбивающей молоко в масло, не дошла. Но о смерти и выборе что-то говорила. А может, и о Сизифе. Потому что запомнила свою фразу: «Он несчастен — ведь у него нет выбора».
И юношеский, смешливый, с перепадом от баска к фистуле голос в ответ на эту фразу:
— Как наш председатель.
И тотчас в задние ряды, откуда прозвучал юношеский голос, двинулась директриса, и облегченно зашевелились, заоборачивались назад передние ряды, и Ксения тоже почувствовала облегченье передышки вместе с унижением, оттого что не может сама совладать с залом. Не тот ли, однако, это «оболтус», о котором говорила накануне пожилая учительница?
Кое-как она договорила, на ходу ужимая и сокращая всё, что собиралась развернуть — она унизительно предавала собственную, так страстно продуманную накануне речь, но ей уже отвратительна была и речь, и вообще всё на свете. Только одного она хотела — бежать как можно скорее и навсегда из Ям, из комсомола, куда она сдуру пихнулась, совершенно неспособная к подобной работе.
Отупевшая и придавленная, вошла она в учительскую, и кто-то сказал, что ее просили срочно, как только она освободится, позвонить в райком Малаховой.
Пока она ждала соединения, она слышала разноцветные голоса телефонисток:
— Мо-олдино? Я Озерища.
— Смородино, помолчи.
— Девочки, дайте райком!
— Дубки, Дубки!
И снова:
— Я — Мо-олдино!
Недостижимо свободен и беззаботен, певуч и насмешлив казался Ксении этот мир разноцветных голосов. Внезапно сквозь них прорвался знакомый голос:
— Малахова у телефона. Это вы? Плохие новости. Плохие новости, я говорю! В Полянах застрелился мальчонка двенадцати лет. Из охотничьего ружья. Вчера. Нам сегодня стало известно.
Ксения молчала.
— Поспешай, Павловна! — велела Малахова.
— Куда? В Поляны или где еще не стрелялись? — сердито спросила Ксения.
— Пока в Поляны, а там подумаем, — озабоченно и вполне серьезно сказала Малахова.
Подвода в Поляны шла на следующий день с утра. Эту ночь ночевала Ксения у родителей Ольги.
В кругленькой матери Ольги не было ничего схожего с дочерью. Ольга походила на горбоносого голубоглазого отца. Походил на Ольгу и отца и брат, только совершенно не был красив. На столе уже стоял мутный самогон, а мать носила на стол чугунок с супом, тушеную картошку, соленые огурцы, квашеную капусту. Слишком уж живо рассказывала Ольга о своих родных — первые минуты, кого бы ни задел взгляд Ксении, перед ней так и выскакивали эти рассказы. Поднимала ли она глаза на удивительно пустое лицо жены Ольгиного брата — и сразу же вспоминала Ольгино: «У нашей Малаши голова большая: другой раз о чем и подумает, да в голове затеряется. Сдуру и бригадиру дала, даже и скрыть ума не хватило». Хотел тогда ее Ольгин брат побить, да что же дурочку бить — она в рев и к бригадиру, а тот ее погнал — своя жена есть. Она назад — мол, не берет бригадир, гонит. Сидит — ревет. А бабка во внучку вцепилась: «Не отдам. Умели жениться — умейте жить». Оставил брат жену в доме, не знает, что дальше делать — хоть ходи за ней следом, своего ума нет.
Смотрела Ксения на горбоносого Ольгиного отца, на кругленькую мать, и опять вспоминала рассказ Ольги, как вернулся отец с войны, где возчиком был в обозе, как позвал он Ольгу в огород, чтобы поведать ей, что была у него там женщина, ехал он домой только повидать их, обещал той женщине вернуться, а вот теперь душа у него и за ту женщину, и за них всех болит, не знает, на что и решиться. Шел он впереди — так ему, верно, легче было рассказывать — говорил и вздыхал тяжело, а Ольга шла сзади, смотрела на рубашку, обвисающую на его сутулой спине, на брюки, мешком болтающиеся на тощем заду, и смех ее разбирал. А дома уже мать у окошка выглядывает их. Вошла Ольга — а мать упала на стул, впилась в нее глазами: «Што он тябе говорил-то? О чем баял?». И на беззаботное Ольгино: «О хозяйстве говорил» — смотрела недоверчиво, спрашивала шепотом: «Как жил, не оказывал? Может, с бабой какой путался? Не ходит он, доча, до меня, совсем не ходит. Спи, скажет, мать — и всё тут. Може, какое ранение или болесть нехорошая? Ничего такого не рассказывал?». И опять Ольге и смешно, и стыдно смотреть на постаревшую мать, ставшую почему-то похожей не на свою, а на отцову родительницу. Прошло дня три, и мать, пряча от Ольги стыдливо-счастливые глаза, говорила деловито: «Ничего, доча, ничего — все наладилось, слава тебе, господи. Конечно ж, отвычка — я и то его стыдюсь после стольких-то годков!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
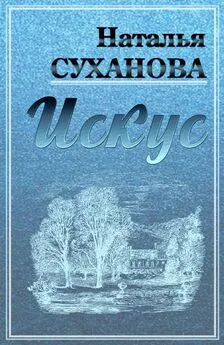






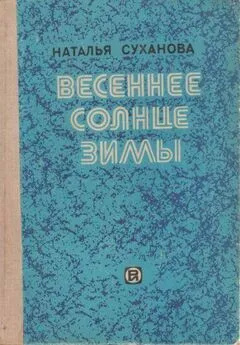
![Наталья Суханова - Вода возьмет [СИ]](/books/1143085/natalya-suhanova-voda-vozmet-si.webp)
![Наталья Суханова - Синяя тень [сборник рассказов : СИ]](/books/1143087/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s.webp)
