Наталья Суханова - Искус
- Название:Искус
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Суханова - Искус краткое содержание
На всем жизненном пути от талантливой студентки до счастливой жены и матери, во всех событиях карьеры и душевных переживаниях героиня не изменяет своему философскому взгляду на жизнь, задается глубокими вопросами, выражает себя в творчестве: поэзии, драматургии, прозе.
«Как упоительно бывало прежде, проснувшись ночью или очнувшись днем от того, что вокруг, — потому что вспыхнула, мелькнула догадка, мысль, слово, — петлять по ее следам и отблескам, преследовать ускользающее, спешить всматриваться, вдумываться, писать, а на другой день пораньше, пока все еще спят… перечитывать, смотреть, осталось ли что-то, не столько в словах, сколько меж них, в сочетании их, в кривой падений и взлетов, в соотношении кусков, масс, лиц, движений, из того, что накануне замерцало, возникло… Это было важнее ее самой, важнее жизни — только Януш был вровень с этим. И вот, ничего не осталось, кроме любви. Воздух в ее жизни был замещен, заменен любовью. Как в сильном свете исчезают не только луна и звезды, исчезает весь окружающий мир — ничего кроме света, так в ней все затмилось, кроме него».
Искус - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В глазах Багрова и неуверенность, и интерес, и желание поверить в свои силы, и боязнь:
— Не получится, а?
— Получится, обязательно получится! Вот слуша…
Багров, члены правления уходят, Ксения с председателем остаются еще поговорить — только форточку открывают: хоть и в рукав, а накурили парнишки.
С улицы звонко доносится:
Неужели, серы глазки, я вам милой не была?
Не одна ночка просижена до самого утра.
Громкий смех и голоса с уханьем, визгом — визжат и ухают из удовольствия громко крикнуть. Толкаются в снег и опять визжат и кричат.
Некоторое время они с председателем говорят по комсомольским делам. Потом соскальзывают на председательскую работу:
— Нравится вам эта работа?
— И да, и нет.
— Почему да и почему нет?
— Это уже второй вопрос?
— Нет, подвопрос.
— Все люди немножко материалисты… Молодой председатель колхоза, приехавший по призыву партии… А в общем-то, не посмел отказаться… Это превосходный трамплин… Работа интересная, но все время как в глухую стену упираешься. Что-то должно измениться, так просто невозможно.
— На заводе же вам приходилось руководить?
— Это несравнимые вещи. Интересно, боятся меня в деревне или нет. Если не боятся, мне здесь делать нечего.
— А не может так быть, что в глаза боятся, за глаза посмеиваются?
— Посмеиваются? Если я захочу, любой из них через полчаса плакать будет! — и, нахмурившись, задумчиво: — Очень мало в возможностях председателя.
— А заставить плакать?
— Это так, чепуха, необходимое условие. Без того, чтобы подчинялись, здесь просто не сдвинешь. Они и сами хотят уже твердой власти.
— А демократический централизм?
— Это насчет того, чтобы советоваться? Пожалуйста. Но решать-то все равно мне. И отвечать тоже.
— А им?
— Что-то устал я, давно уже не вел таких сложных, фигурных разговоров! Колхоз развален, и мне его собирать. А здесь великая анархия. Я вот служил в Германии. Нам у них университеты проходить надо, нам еще столетия нужны, чтобы дисциплина, как у них, уже не в убеждениях — в самой крови была. Мы их победили, но даже если бы мы у них всю Германию подчистую вывезли, они бы уже через три года снова лучше нас жили. Я только там понял, что такое дисциплина.
— У меня мама врач. Она рассказывала про одну свою знакомую, которая гипнозом лечилась, довольно долго — и вот, вскоре дети ее заметили, что стоит им приказать ей что-нибудь построже, пожелезнее, голос повысить — и она послушно, дисциплинированно выполняет.
— Вы хотите сказать, стоит какому-нибудь негодяю стать у власти и прикрикнуть, как дисциплинированные сделают что угодно?
— Уже делали.
— И все-таки много бы я отдал, чтобы в моем подчинении было хотя бы несколько этих дисциплинированных немцев.
— Не выдюжили бы ваши немцы.
— А гипноз?
— А знаете, я вот все о Багрове: очень он мне нравится, но боюсь — обожжется.
— Ладно — поддержим, хотя, честно говоря, меня и на половину совершенно необходимых дел не хватает.
— На всю жизнь останетесь в колхозе?
— Едва ли. Но поднять хочу.
Форточка была открыта, и председатель встал к ней покурить.
— Почему вы губы не красите? — вдруг спросил он.
— Здесь не красят, — немного растерялась Ксения.
— Накрашенные губы придают свежесть, — сказал он, пристально глядя на ее рот. — У вас губы потрескались.
Пора было сматывать.
— Да вы не бойтесь, — сказал председатель, — это у меня не страшно. Один раз я уже переболел из-за красивых глаз. Теперь это только так — от усталости и позднего часа…
Ночевала Ксения у Смирновой. Она уже лежала, а Смирнова стояла рядом, белея в темноте рубашкой:
— О чем говорил председатель-то наш? Больно он круто берет. В глаза-то его уважают. Даже очень. А не любят. А у нас ни одного председателя не любили. Здесь такой народ: ненавидят, кто выше их становится, кто власти больше забрал. «Геша длиннолягий», — зовут его за глаза. А прежнего «Михрюней» звали. Пил наш Михрюня, а так — ничего человек был. И знающий. Новый-то наш часто с ним советуется… Только круто уж очень берет Геша! Он думает — так легко народ переломить. Ой, еще помучается он с нами. Он думает, праздновать запретит. Все равно будут праздновать.
И не понять, за председателя она или против.
Как-то, еще летом, в солнечный вечер пробегала Ксения через вторые сени, направляясь на танцы, и вдруг остановилась: в хлеву, под одну крышу пристроенном к дому, хорошо видна была хозяйская корова — и, припав к ее боку кудрявой, поникшей головой, не то плакал, не то прощался со своей кормилицей дядя Митрий. В лучах глядящего в двери солнца ярко краснела его любимая красная рубаха. И хотя ждали Ксению удовольствия, которых всегда мало, стало ей как-то не по себе от этой поникшей кудрявой головы, уроненной в локоть. «А пить буду и гулять буду, а суждено мне нехорошей смертью помереть», — неприятно вспомнилось ей.
— Тетя Клава, — сказала она, вернувшись в избу, — поглядели бы вы, чего там дядя Митрий вроде плачет у коровы или как прощается с ней — не задумал он чего плохого?
И даже села подождать, пока вернется из хлева тетя Клавдя.
Вернулась хозяйка, какая-то приглядливая, со значительно поджатыми губами:
— Нету Митрия в хлеву.
— Ну, значит ушел на конюшню (через амбарные ворота было ближе к конюшне).
А тут и сам дядя Митрий вошел — веселый и беззаботный. И рубаха на нем была белая. «Переодел, что ли? — подумала Ксения. — Но зачем?». А главное, нельзя было так быстро «переодеть» выражение, состояние — ничего не было в явившемся дяде Митрие от того отчаявшегося, «прощавшегося», которого видела она только что, минут пять назад, не больше. Да и не мог он заметить, когда стояла она, глядя на него с высоты настила — ни разу не поднял он головы, а она стояла, наверное, полминуты, не меньше.
— Митрий, ты был сейчас у коровы?
— Не. А чё такое? — и не мелькнуло в его голосе и тени притворства, беспокойства или нахмуренности хотя бы.
— А рубаха твоя красная иде?
И тут же была извлечена дядей Дмитрием из шкафа красная праздничная его рубаха.
— Ну, я пошла, — сказала смущенная Ксения.
Теперь она уже не пошла через задние сенцы, хоть оттуда в летнюю пору и ближе было. Она только покосилась с тревожным неприятным чувством в сторону коровника. «Галлюцинация, что ли?». Но что-то должно же предшествовать галлюцинации — страх, недомогание? А она здорова и трезва как никогда. Если бы это случилось в юности, когда она постоянно качалась меж восторгом и пустотою, отчаяньем, отвращением, а то ведь — сейчас. Может, все же был в коровнике дядя Митрий, а отсвет заката окрасил его белую рубаху в красное? Так ведь и заката не было: северный вечер, солнце еще высоко, не красное, не закатное.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
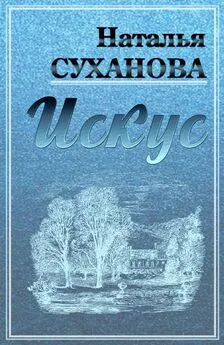






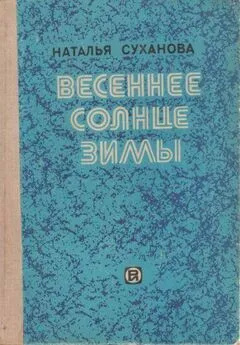
![Наталья Суханова - Вода возьмет [СИ]](/books/1143085/natalya-suhanova-voda-vozmet-si.webp)
![Наталья Суханова - Синяя тень [сборник рассказов : СИ]](/books/1143087/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s.webp)
