Наталья Суханова - Искус
- Название:Искус
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Суханова - Искус краткое содержание
На всем жизненном пути от талантливой студентки до счастливой жены и матери, во всех событиях карьеры и душевных переживаниях героиня не изменяет своему философскому взгляду на жизнь, задается глубокими вопросами, выражает себя в творчестве: поэзии, драматургии, прозе.
«Как упоительно бывало прежде, проснувшись ночью или очнувшись днем от того, что вокруг, — потому что вспыхнула, мелькнула догадка, мысль, слово, — петлять по ее следам и отблескам, преследовать ускользающее, спешить всматриваться, вдумываться, писать, а на другой день пораньше, пока все еще спят… перечитывать, смотреть, осталось ли что-то, не столько в словах, сколько меж них, в сочетании их, в кривой падений и взлетов, в соотношении кусков, масс, лиц, движений, из того, что накануне замерцало, возникло… Это было важнее ее самой, важнее жизни — только Януш был вровень с этим. И вот, ничего не осталось, кроме любви. Воздух в ее жизни был замещен, заменен любовью. Как в сильном свете исчезают не только луна и звезды, исчезает весь окружающий мир — ничего кроме света, так в ней все затмилось, кроме него».
Искус - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Через кровать от Ксении молодая учительница, Галина Сергеевна, тоже с рассеянным склерозом. Она еще может, хотя бы с помощью, встать на ноги, но ходить уже не может, неуправляем уже и мочевой пузырь.
— Ах, да что мне муж! — говорит она. — Конечно, он ожидал, что я, калека, не такие письма писать буду. Очень нужно! Я о нем и думать забыла! С мочой меня мучает: а что, как и дома такое будет? Неужто еще маме круг из-под меня таскать? Мало ей колготни с моим Вовкой! Только бы немного поправиться — вот и все мысли. Буду хоть чуть здорова — я и без мужа проживу. А больной мне и с ним не жизнь.
— Мужику нужна сестра богатая, а жена здоровая, — вставляет рассудительная тетя Шура.
Но больше никто этого разговора не поддерживает. О мужьях, молодых и красивых, здесь не говорят — это из другой жизни. И любви не вымаливают — всё равно не вымолишь, только упадешь и не поднимешься. Ксении некому писать — ни покорные письма, ни непокорные. Но одно она бы еще написала: «Мой хрупкий, мой тонкий, мой обожаемый, всё это было уже со мною однажды, но сколько бы игла, идущая по кругу, ни попадала на трещину, она визжит».
«Хочешь, мы поженимся?» — сказал ей Игорь в день, когда испугался за нее. Если бы она позволила себе сказать «хочу», наутро он уже раскаялся бы, сказал, что «не знает», ему нужно время подумать. Ах, даже на слезы здесь не имеют права — голова разламывается от боли, сердце бухает и проваливается. Что ж, Ксения Павловна, вы одна, и так даже лучше. Неужто ему никто не напишет, что она больна, беспомощна, неужто не рванется он к ней? Виктор, если бы знал, приехал. Игорь нежнее и жестче. Бог с ним, вернулось бы здоровье, а любви ей больше не нужно.
Высохшая женщина с подкорченными ногами смотрит в окно.
— Долго же я лежу, — тоненьким нежным голосом говорит она. — Веточка у окна сначала голенькая была, потом листочками покрылась, потом, смотрю — пожелтели листики. Теперь вот белые веточки, а я все лежу да лежу. Врачи улучшение отмечают. «Но ведь вы чувствуете, что вам лучше стало?» — передразнивает она врачей. — Какое там «лучше»! Ничего мне леченье не помогает, — голос ее становится резким от неприязни. — Бог с ними, думаю, хочется вам очень, так пишите «улучшение». Чтобы у вас было такое «улучшение», прости меня господи! — она молчит, перебарывая слезы, и снова тонким, нежным голосом. — Господи, выползти бы на зеленую травку, погладить бы ее руками, посидеть, пичужек послушать…
Вечером, когда начинался озноб, Ксения торопливо умывалась, чистила зубы, причесывалась — со слабостью и сердцебиением. И ложилась почти в сладостном предвкушении тряски. Она всё сильнее зябла, все тринадцать вторых одеял палаты наваливали на нее. Колотило так, что одеяла сползали… Вот он, человек с красными пятками — посреди двора, на носилках, под косо сползшим одеялом… «Кто пятки твоей не стоил…». Как она тогда, пробегая из института мимо двора со «скорой» посередине, испугалась этих носилок, этого напряженно-неподвижного тела: «Только не мне, только не со мной!». Тебе. С тобой. Рано или поздно — тебе, с тобой… В начале лета ехала она на каникулы — может, это было после первого курса? В их купе внесли на носилках инвалида с недвижными ногами. Сопровождал его дюжий парень, однако тоже инвалид. Дюжий перетягивал сухонького с носилок на нижнюю полку, тот невольно морщился, однако улыбался — как бы ободряя окружающих, которым приходится смотреть на него. Немного отдышавшись, инвалид сказал товарищу: «Ну что, споем, Вася?». Тут же Вася вытянул откуда-то гармошку, и Ксения приготовилась услышать что-нибудь проникновенное и талантливое, потому что как же иначе: «Слепой музыкант», Павка Корчагин, «если жизнь становится невыносимой, сделай ее полезной», опять же Маресьев. Но пел сухонький бездарно, долго клокотал горлом и выкрикивал псевдо-цыганское «О-ха-хаа!», безбожно перевирал мелодию, в местах патетических голос его был неприятно-резок, в пассажах «задушевных» переходил на мелодраматический шепот. Пьески были тоже дурацкие. Но сам инвалид остался своим исполнением доволен. С усталой, снисходительной к своему никудышнему здоровью улыбкой передал он гармошку другу: «А помнишь, Вася, как пел я в госпитале?» — «Большой голос», — солидно и убежденно подтвердил Вася. Инвалид, прикрыв глаза, улыбался умиротворенно. «Вася, поправь подушку, — попросил он, — положи меня повыше», и тоном шутки, с которой двое расшалившихся верзил хлопают друг друга по спинам, но невольно морщась и прикусывая губы: «Да тише ты, черт полосатый, я же тебе не мешок с картошкой! Вот ведь!». Припекало, вагон раскалялся, но все рамы были опущены, меж полок гуляли сквозняки, угарным дымом от паровоза протягивало, но тут же дымок и выбивало горячим, свежим сквозняком. Когда в купе не оставалось собеседников, улыбка, как бы ободрявшая тех, кто смотрел на него, сходила с лица инвалида, и по серой коже его лица скатывались капли пота… Ах, если бы он был талантлив, какой высокий катарсис испытала бы восторженная, сострадательная Ксения. Но просто мука изо дня в день: все эти цыганские «О-хо-хаа!» превращались в дурную бесконечность, которую, из самозащиты, едва приехав домой, тут же и выбросила она из головы.
— О, Господи, — стонет женщина с подкорченными коленями. — Господи, какая мука! Будет ли конец-то? О, боже, боже!
Неужто и она, Ксения?.. Но об этом не нужно. Нужно о чем-нибудь, что помогает. Мама, с ее глубокими, сострадательными глазами, ее быстрые, резкие и всё же такие ласковые руки. Или Валерка, который идет незаметно рядом с Ксенией, а джемушинский день всё разгорается, всё полнится светом. Но из этой больной лихорадочности Джемуши и солнечный свет — пустая картинка, не больше. Да и Валерка уже не тот, маленький, что спал, картинно упершись в бедро тонкой загорелой ручонкой, а на его персиковой щеке лежала тень длинных ресниц. Он уже юноша, а она… Но об этом тоже не надо. Надо о маме, знающей, что такое человек с красными пятками. Кровавый бюджет, который исправно, черт возьми, платит человечество, — ни на миг не смутит маму. Что ей закон больших чисел! Она сама говорит, что считать не умеет и не собирается учиться. Космогония и — человек на носилках. Судорожный одиночный страх. Ни на минуту не остановится мама. Страх не заражает ее. Как шарахаются люди даже от незаразной болезни — словно само пространство рядом с несчастным помечено. Не тот, так другой, — говорит равнодушный закон. Этот, и тот, что рядом, — говорит ленивый надсмотрщик от закона. Не тот и не другой, — говорит маленькая, часто смешная мама. Вот она кладет маленькую руку на ее лоб, и сразу легче. Виктор не помнит своей мамы, а руки бабушек не бывают так нежны. Всё сильнее раскалывается голова, слова уже отстают от фраз, бродят неопознанные, складываются в бессмысленные сочетания. Почему-то волосы. «Волосы стояли среди высоких лип всего отвеснее». Липы? Которые так сладостно пахнут в самом начале лета. О деревьях можно думать и тогда, когда обо всем другом думать больно и нельзя. Человек с красными пятками — вот, значит, к чему однажды, когда она возвращалась из института, пересекли ей дорогу носилки с неподвижным человеком: было холодно, красные ступни не прикрывало одеяло, но человек не делал движения, чтобы их укрыли. Сегодня другой, завтра ты. Но не об этом. О дереве.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
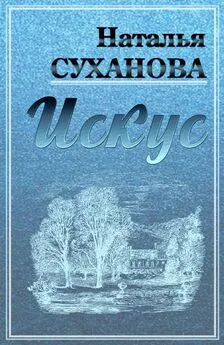






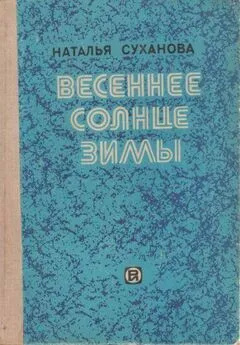
![Наталья Суханова - Вода возьмет [СИ]](/books/1143085/natalya-suhanova-voda-vozmet-si.webp)
![Наталья Суханова - Синяя тень [сборник рассказов : СИ]](/books/1143087/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s.webp)
