Наталья Суханова - Искус
- Название:Искус
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Суханова - Искус краткое содержание
На всем жизненном пути от талантливой студентки до счастливой жены и матери, во всех событиях карьеры и душевных переживаниях героиня не изменяет своему философскому взгляду на жизнь, задается глубокими вопросами, выражает себя в творчестве: поэзии, драматургии, прозе.
«Как упоительно бывало прежде, проснувшись ночью или очнувшись днем от того, что вокруг, — потому что вспыхнула, мелькнула догадка, мысль, слово, — петлять по ее следам и отблескам, преследовать ускользающее, спешить всматриваться, вдумываться, писать, а на другой день пораньше, пока все еще спят… перечитывать, смотреть, осталось ли что-то, не столько в словах, сколько меж них, в сочетании их, в кривой падений и взлетов, в соотношении кусков, масс, лиц, движений, из того, что накануне замерцало, возникло… Это было важнее ее самой, важнее жизни — только Януш был вровень с этим. И вот, ничего не осталось, кроме любви. Воздух в ее жизни был замещен, заменен любовью. Как в сильном свете исчезают не только луна и звезды, исчезает весь окружающий мир — ничего кроме света, так в ней все затмилось, кроме него».
Искус - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Между тем письма от Виталия не было. Она избегала утром уходить на работу, если у отца были отгулы — она подозревала его в том, что он мог вынуть и уничтожить письмо. Она спрятала ключ от почтового ящика, чтобы самой вынимать почту. Она даже завела приятельские отношения с почтальоншей, условившись, что личное письмо она обязательно отдаст ей из рук в руки — и потом корила себя, что конечно же зря сказала: теперь почтальонша получила и прочла из любопытства письмо Виталия, а потом или не смогла заклеить, или порвала нечаянно, или просто сделала это назло — женщины завистливы друг к другу. Она спрашивала письма на почте, хотя они не уславливались писать «до востребования».
Она стала мелочна и руглива, как рыночная торговка. Вспыхивала дома от каждого слова, ненавидела всех, начиная от отца и кончая счастливым, как все молодые олухи, Валеркой. Она не шла домой после работы не потому, что ей нужно было куда-то идти — из невозможности видеть расслабленные лица родителей, жизнь которых сведена до минимума броуновского колебательного движения меж косной работой и косным бытом. Нередко она сидела недалеко от дома, поджидая, пока погаснет в окнах свет.
И однажды поздним вечером разразился скандал. Отец не спал, он ждал, накаленный. И едва она открыла дверь, разорался, чтобы она подыскивала квартиру. Кстати, Валерки тоже еще не было с вечерних гуляний, но ему всю жизнь разрешалось больше, чем ей. Он ведь был мужчина, хоть и сопливый, а она баба, застрявшая в отчей семье, все более отвратительная окружающим — ни к кому не приткнутая, полая, нечто вроде привязанной к жестяному баку общей, погнутой кружки. Конечно, этот скандал уже назревал, уже подготавливался. И назревал тем вернее, что отец долго сдерживался и была на грани истерики Ксения. Всего уж и не припомнить, что было выкрикнуто ими друг другу. Мать только умоляла: «Ну, глупости, ну, перестаньте, ну, хватит уже вам! Кто-то же должен быть умнее! Ксения! Павел!». А они, как водится, только разжигались от ее бессильных умоляющих вскриков. И отец ступил туда, куда уж никак нельзя было. А он не понял, возможно, он в самом деле считал Ксению развратницей. Или уж ничего и не считал, просто несло его. Значит, было, было то, что казалось ей только страшно пригрезившемся в детском сне — значит, было, что он маму оскорблял площадными, бранными словами! — душевно грязный — или сумасшедший? Глаза у него были белые — какая там, к черту, любовь! Супружеская, отцовская любовь — это в книжках! «Господи Иисусе, ему уже по горлышко!» — «Вольно же ему было выдрющиваться — шел бы, как все, по камушкам!». Белые глаза: тогда — сейчас? И — грязь, грязь! «Шлёндраешь по ночам, задницу курортникам подставляешь!». Она хотела его убить — и не могла сдвинуться с места. Мать испугалась, и она сама испугалась — крик не проходил сквозь ее стиснутое горло, ей казалось — ее разбил паралич. Если бы здесь был Валерка! Не может быть, чтобы брат не дал пощечину отцу, который грязно оскорбил сестру!
Она убежала к Женьке, разбудила ее среди ночи, билась и плакала, твердила, что ненавидит отца, что нет у нее дома и никогда не было, что она поживет месяц у Женьки, а потом уедет, ах, дура-дура, идиотка, она-то боялась умереть — не из-за себя, из-за них, боялась ввергнуть их в отчаянье, а она не нужна; как бы она их облегчила, умерев, нет-нет, она знает, что говорит, она теперь умная, все поняла, все знает.
Была надежда, что именно сейчас, когда она дошла до предела унижения и отчаянья, будет от Виталия письмо. Но письма не было.
Приходила мать, говорила, что отец очень переживает, что если Ксения так долго помнит зло, значит, у нее нет любви к отцу. И Ксения отыгрывалась на матери.
— Да, ты права, — говорила она. — Я просто его не люблю. Он более чужд мне, чем самый чужой человек, как и я ему. Я не просто не люблю его — он отвратителен, противен мне.
Приходил брат.
— Живи здесь, если тебе нравится, — говорил он. — Наверное, это для тебя даже лучше — жить отдельно. Не думай, что мне такой уж кайф — сосуществовать с родителями. Но не принимай всего этого так близко к сердцу.
Неужели у нее уже был не младший брат, а брат-ровня, брат-друг? Но идиллии ее сильно смущали, инстинктивно она всегда портила их. И сейчас она не вняла тону брата-опоры:
— Не принимать близко к сердцу — удел филистеров и буддистов. Очень успокаивает. Сохраняет нервную систему.
И всё — дверца захлопнулась. Ну что ж, путешествовать так путешествовать, как сказал попугай, когда кошка потащила его за хвост.
Дня через три мама пришла опять. Отец заболел. Приехала мамина — еще институтская — подруга. Спрашивает о Ксении. Не хочется удивлять ее их новостями. «Сделай это для меня, Ксенечка, приди».
Ксения пришла неудачно, ни мамы, ни подруги ее дома не оказалось. Один отец лежал в комнате, серый, с закрытыми глазами. Ксения удивилась своей полной холодности к нему. Она смотрела на его неподвижное лицо и спокойно думала, что когда-нибудь он вот так же будет лежать мертвый. Вспомнила его брань, и ненависть снова ворохнулась в ней. Она пошла па цыпочках в другую комнату и вдруг заметила, что он на нее смотрит. Он смотрел грустно и мягко. Глаза его на сером лице были удивительно голубые. В ту же минуту он снова прикрыл глаза. Они ничего не сказали друг другу. Но у нее перехватило горло: уже не отвращеньем — горькой любовью. Никогда она не вернется в дом, к нему, но он в ней, и от этого не уйти.
Вечером мамина подруга, которую Ксения привела ночевать к Женьке, рассказывала свою жизнь. Верно уж, мама что-то да сказала о Ксении, о неустройстве ее и вспыльчивости, потому что не задала Ксения и двух-трех вопросов, а та уже рассказывала. Она кончала медицинский вместе с её мамой, но пошла в работе дальше — профессор, имеет научные работы, известна. И при том одинока и несчастлива. Есть сын, но не с ней — отбывает срок. Ее неприятности, как и мамины, начались в тридцатых, хотя уж ее-то они не должны были коснуться. Происхождение самое что ни на есть пролетарское, блестящая студентка, секретарь комсомольской организации курса. Но вот усомнилась в чем-то там, не согласилась осудить. И пошло-покатилось. Ее активность комсомольская, всякие там нагрузки ничуть не смягчили участи — предпочли счесть, что она сознательно втиралась в доверие. Из комсомола ее исключили как-то очень быстро. Оправдываться она отказалась: «Все равно исключите». «Вот видите, — сказали, — она презирает товарищей и организацию, даже объяснить своего поведения не желает». Она в это время уже беременна была — муж настаивал на аборте, она отказалась. Так и говорила своему будущему ребенку: «Ты должен быть мальчиком. Нас теперь с тобой только двое. Я буду бороться за тебя и себя. А ты потом моей опорой будешь». А у мужа свои неприятности начались. Он долго был секретарем у некоего наркома, которого в это время осудили. Мужа не тронули, но он был смертельно напуган. И не нашел ничего лучшего, как всюду писать письма с просьбой избавить его от жены-шпионки, которая и его ловко обманула. А ее комиссией партконтроля в это время восстановили в комсомоле. Вскоре большинство из тех, что осуждали, клеймили её на собрании, сами осуждены были. Многие так и пропали — шла гибельная круговерть. Муж подал заявление на выселение ее из квартиры, и отказ ему прочла она, вернувшись с сыном из роддома. Еще двенадцать лет прожили они втроем — с сыном и свекровью в одной комнате. Супруг ее приходил к матери обедать со своей новой женой. Он с матерью опять всюду писал, требуя, чтобы ее с сыном выселили. Время от времени разражались скандалы: «Авантюристка! — кричала свекровь. — Ты вышла замуж из-за жилплощади!». «Я убью тебя со щенком!» — кричал он. Маленький сын пугался и плакал. Она брала его на руки: «Не бойся, сынок, не убьет, он подлец, но трус». С этого времени о замужестве она перестала думать раз и навсегда. Сыну было двенадцать лет, когда они получили наконец собственную площадь — две крохотные комнатки в коммуналке, — и счастливы были. С тех пор девятого апреля они праздновали «день освобождения от оккупантов». Сын любил ее, гордился ею. Об отце не вспоминали. А шестнадцати лет он попал под суд. Товарищи его отобрали в парке у женщины сумку. Его с ними при этом не было, но он вместе с ними пропивал эту сумочку. Дело получило большую огласку, потому что заинтересовало известного писателя. Была и книга написана. Фактов писатель не искажал, но получилось у него слаще, чем в жизни. И все же она рада, что дела коснулся писатель — все же, может быть, меньше беззаконий творится с этими ребятами в местах заключения, сколько с другими, безвестными. И — сначала-то потрясена она была, но ужаса такого не было. На суде она единственная из родительниц осудила себя: «Я слушала других родителей и завидовала им. Мой сын рос в условиях, в которых им не только никто не занимался, но все были рады, когда он уходил на улицу. И даже когда мы уже отделились от ненавидящих нас его отца и бабушки — много ли он видел меня, много ли я занималась с ним? Мы встречались только вечерами, и то, если не было у меня ночных дежурств». Как он смотрел на нее в суде, когда она говорила это! Он пообещал ей, что пройдет через испытание и очистится, выйдет и будет лечиться и больше ей никогда не придется краснеть за него… А теперь говорит, что не знает, сможет ли еще учиться, когда выйдет отсюда. Она уже дважды ездила к нему в лагерь. «Посылки, — сказал он, — больше мне не присылай. Нам все равно они не достаются. Большие воры здесь грабят маленьких и помыкают ими. Здесь нет советской власти. Они так и говорят. Кто? — Начальники наши, те, что с ними в сговоре: советская власть отсюда, знаешь, где находится?». Он отупел и ничего уже не хочет и не понимает. Он надломился. «Начал ты с того, — сказала она ему, — что попал на скамью подсудимых, и я думала, ты чему-нибудь научился, сообразил, что непротивление злу — это участие в нем. Я считала, что если ты это поймешь, то поймешь даже больше, чем те, что здесь за то, что собственноручно грабили. Но ты: «Ах, мир плох, увольте меня от участия в нем. Неужели ты так слаб?». А после плакала всю дорогу до станции. И мукой мучится от страха за него. Недавно была у писателя, рассказала всё, и опять не знает, правильно ли сделала, не погубит ли окончательно сына. Да, девочка — тяжело! А кто вам сказал, что жизнь легка?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
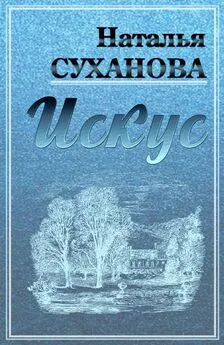






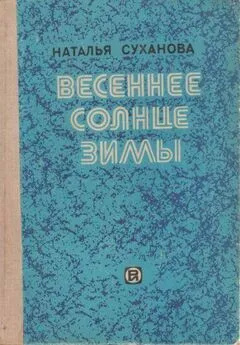
![Наталья Суханова - Вода возьмет [СИ]](/books/1143085/natalya-suhanova-voda-vozmet-si.webp)
![Наталья Суханова - Синяя тень [сборник рассказов : СИ]](/books/1143087/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s.webp)
