Наталья Суханова - Искус
- Название:Искус
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Суханова - Искус краткое содержание
На всем жизненном пути от талантливой студентки до счастливой жены и матери, во всех событиях карьеры и душевных переживаниях героиня не изменяет своему философскому взгляду на жизнь, задается глубокими вопросами, выражает себя в творчестве: поэзии, драматургии, прозе.
«Как упоительно бывало прежде, проснувшись ночью или очнувшись днем от того, что вокруг, — потому что вспыхнула, мелькнула догадка, мысль, слово, — петлять по ее следам и отблескам, преследовать ускользающее, спешить всматриваться, вдумываться, писать, а на другой день пораньше, пока все еще спят… перечитывать, смотреть, осталось ли что-то, не столько в словах, сколько меж них, в сочетании их, в кривой падений и взлетов, в соотношении кусков, масс, лиц, движений, из того, что накануне замерцало, возникло… Это было важнее ее самой, важнее жизни — только Януш был вровень с этим. И вот, ничего не осталось, кроме любви. Воздух в ее жизни был замещен, заменен любовью. Как в сильном свете исчезают не только луна и звезды, исчезает весь окружающий мир — ничего кроме света, так в ней все затмилось, кроме него».
Искус - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И канет солнце медного литья
Копейкою в копилку бытия.
Кабы хоть копейкою! И она тоже спешила изжить эту промежуточную ночь. Хотя уж ей-то куда бы спешить. Только в песнях: «Ямщик, не гони лошадей — мне некуда больше спешить». Даже в очереди к зубному врачу, и то сердятся на внеочередных… Даже если бы она ехала к Виталию… Прошел бы, как этот промежуточный день, любой другой: день нетерпеливо ожидаемой радости — так же, как день скорби. Уйдут до одного каждый из тридцати тысяч дней твоей жизни. И тогда — как это говорит Мефистофель, взирающий с презрением и жалостью на остывающее тело Фауста:
Прошло? Вот глупый звук пустой!
Зачем «прошло»? Что, собственно, случилось?
Прошло — и не было — равны между собой..
…В разноголосом гуле, в оранжево-синем сгущающемся к ночи небе плыл кусок какой-то квартиры с затененными забвением углами, со смутными, недовспомненными лицами, с проступающим выражением этих лиц — выражением гостеприимства и простоты… Какая-то семья в областном городе, семья, в которую привели ее на полдня, на день… в общем-то, можно было даже представить, кто мог ее привести. И вот, тепло семьи, в быт которой она принята — на целый день, может быть. Помнится, где находился стол, а где двери. И кровать помнилась, потому что на ней, вблизи праздничного стола, лежал младенец, которым занималась время от времени хозяйка. Был смех, было застолье, небольшое, всего человек пять-шесть. Какой-то праздник был — длинный, как все праздники в тех местах. Со стола и не убирали, только мыли и снова ставили тарелки, только уносили, чтобы подогреть и добавить, кастрюли и сковородки, только бегал кто-то, чтобы подкупить вина. Кроме младенца, еще какой-то ребенок был. А женщина, хоть и молодая, но уже располневшая. Детей же, да, было двое: постарше, который-которая сам-сама подходил к столу, когда ему что-нибудь нужно было, и тот, на кровати, младенец. Почему это никогда не всплывало в памяти, словно и в жизни не было, и вдруг восстановилось куском с размытыми краями?
Голос с потолка, как бы с нервной зевотой — «А-длер» — объявил очередной поезд, и снова в оранжево-синем небе проплыл стол с остатками закусок в тарелках, со смутным ощущением лиц, с обрывками смеха и голосов. Много ли еще такой пропавшей, ушедшей в ничто ее невосполнимой жизни осталось за пределами сущего?
Ксения вышла на перрон. Подошедшие поезда выплескивали людей: приехавших — с чемоданами, и выскочивших отдохнуть, купить чего-нибудь — в спортивных штанах, в халатиках. Снова размеренный голос с нервно-зевотным: «Просьба а`тъезжающим» — и поезд отправлялся, сначала раскатываясь осторожно, потом все быстрей, и исчезая почти незаметно, может, потому, что уже новые поезда объявлялись, и опять выплескивали они людей и обрастали торопившимися уехать. Так точно это повторялось, что перроны казались отлаженной механической игрушкой. А над всем этим продолжающимся роскошеством летнего дня простиралось южное вечернее небо. Не продолжающимся даже — возросшим, усилившимся изобильным роскошеством жизни было это все еще нетемное, но сгустившееся до невероятной вечерней голубизны небо.
Уже зажигались фонари. Нежным хлебом, горьковатым паровозным дымком, вечерними цветами веял легкий ветер. И небо, и ветер, и фонари томили.
В зале, куда вернулась она с перрона, всё так же вжимались люди в очередь к кассе, стремясь опередить в поездах эту ночь. В огромные окна под крышей заглядывало небо. Оно было и в этом зале, хотя его не замечали. Его было не откачать из этого вечера, как не убрать из времени пространство и простор. Во всем этом вечере был словно избыток ненужной, невостребованной жизни. И тревога, грех — не то промежуточности, не то бессилия, — страх отвернуться от этого дня, от этого вечера, обречь на забвение, сделать только средством, — всё гуще томили ее.
Через три часа лежала она на своей второй полке купейного вагона, и внизу ребенок, который почему-то не спал, а сидел вдвоем с матерью, глядя в окно, говорил спокойным задумчивым голосом:
— Вот и луну проехали…
Пациент ее мамы Петр Филаретович с женою встречали Ксению в Казарске, и даже не в самом Казарске, а на соседней станции. Хорошо быть дочерью курортного врача — тебя выходят встречать чуть ли не всей семьей, осчастливленной Джемушами.
Автобус, в котором они ехали в сам Казарск, был битком набит, в нем то и дело вспыхивали ссоры. Ругались щедро и с удовольствием:
— Что же вы совсем на меня навалились?
— А на кого мне наваливаться?
— На свою жену наваливайся.
— На мою жену сосед навалился.
— Мне ваш перегар нюхать без надобности.
— Яша, не связывайся с ней — разве ты не видишь, что от нее всего можно ожидать?
— Ах-ах! Вы это сурьезно?
— Вы уже полчаса стоите на моей ноге.
— У вас ноги не годятся для автобуса — вам надо свою машину иметь.
— Вы не умничайте, хулиган вы нахальный.
— Люблю пожары — тетя, дай ему в ухо!
Город был жаркий. Наступил вечер, а прохлады все не было.
Пили чай с вишней. Разговаривали. Петр Филаретович, металлург, и, кажется, даже известный в своем деле, говорил неторопливо, но охотно.
— А кто вам сказал, что жизнь легка? — говорил он, повторяя — кажется, даже дословно — мамину подругу, повторяя и Александру Никитичну, и всех тех, кого уже и не упомнить, но которые своими рассказами говорили, в сущности, то же. И было это облегченьем — что жизнь не легка, а если вдруг покажется, что легка — так ведь это ложь, с обязательным, потом еще большим утяжеленьем, и уже не надо было нестись за той возможностью прозрачно-чистого бытия, каким могло оно стать рядом с Виталием.
Разморило, хотелось уже спать, но сказать об этом казалось невозможным — гость не должен быть чрезмерен в своих притязаниях, он должен подлаживаться к привычкам хозяев, чрезмерность ему положена только в одном — в улыбках и благожелательности.
Знакомые предложили у них и жить, но этого нельзя было допустить. От них и так требовалось самое важное — прописать ее.
Квартиру нашла она на другой же день. Пошла по улице в сторону от базара, глазея по сторонам. За нераспечатываемыми и летом окнами стояли стопки со старою, серой от пыли солью. Почти в каждом дворе обветривалась рассыпанная картошка. Свернула в переулок. У первого дома не было никого, и на звонок в калитку не вышли. Во втором и третьем доме ей отказали. У калитки четвертого дома стояла высокая старуха.
— Не пустите на квартиру? — спросила ее Ксения.
— А сколько?
— Я одна.
— Нет.
— Я бы как за двоих платила.
— Нет.
Ну, нет — так нет. Ксения пошла дальше.
— Постой, — окликнула ее старуха. — Подойди. Откуда приехала? Студентка?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
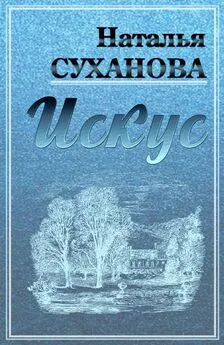






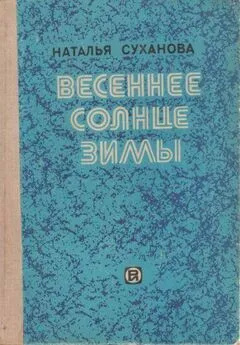
![Наталья Суханова - Вода возьмет [СИ]](/books/1143085/natalya-suhanova-voda-vozmet-si.webp)
![Наталья Суханова - Синяя тень [сборник рассказов : СИ]](/books/1143087/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s.webp)
