Наталья Суханова - Искус
- Название:Искус
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Суханова - Искус краткое содержание
На всем жизненном пути от талантливой студентки до счастливой жены и матери, во всех событиях карьеры и душевных переживаниях героиня не изменяет своему философскому взгляду на жизнь, задается глубокими вопросами, выражает себя в творчестве: поэзии, драматургии, прозе.
«Как упоительно бывало прежде, проснувшись ночью или очнувшись днем от того, что вокруг, — потому что вспыхнула, мелькнула догадка, мысль, слово, — петлять по ее следам и отблескам, преследовать ускользающее, спешить всматриваться, вдумываться, писать, а на другой день пораньше, пока все еще спят… перечитывать, смотреть, осталось ли что-то, не столько в словах, сколько меж них, в сочетании их, в кривой падений и взлетов, в соотношении кусков, масс, лиц, движений, из того, что накануне замерцало, возникло… Это было важнее ее самой, важнее жизни — только Януш был вровень с этим. И вот, ничего не осталось, кроме любви. Воздух в ее жизни был замещен, заменен любовью. Как в сильном свете исчезают не только луна и звезды, исчезает весь окружающий мир — ничего кроме света, так в ней все затмилось, кроме него».
Искус - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Да, так же ведь говорил сын Маргариты: «Если бы мировоззрение зависело от личной судьбы, это было бы слишком произвольно». А пасынок Ромена Роллана, Сергей Кудашев, сын князя? Он знал, что судьба его зависит от социального происхождения, хотя родителей себе не выбирают и не отказываются от них из соображений удобства. И всё же и он был за коммунизм, потому что, как говорил он: «Этот строй по своей сути и целям соответствует требованиям разума». И накануне войны, поспешая от матери и отчима в Советскую Россию, он предупредил их спокойно, что, возможно, прощается с ними навсегда — война неизбежна, и он — как математик — будет в тех подразделениях артиллерии, где смертность особенно высока.
— Скажет, бывало: «Мамочка, вы еще молодая, вы еще до коммунизма доживете, до всеобщей счастливой жизни!»
— «Ничего, — говорит, — нас этим не возьмешь. Я помру — другие жить будут».
— Я вечеринку их запомнила перед самой войной. Ой, такие же все они веселые были! И стихи читают, и песни поют, и шутят друг над другом, и всякие сцены изображают. А то спорить начнут, я уж даже и не пойму, о чем. Инна в таком белом сарафанчике была и размахайке белой. Вот уж танцевали и шумели они до ночи, а потом купаться собрались. Инна Юрику, видать, нравилась, а ей — Тетерин. Уж не знаю, чего он ей и нравился — мужественности в нем совсем не было, зато гонору и умничанья много. А Юрка был такой необыкновенный парень, куда там Тетерину до него, он и отличник в своем университете круглый, и на все способный. Но никогда не гордился этим, а всё со смехом. А Тетерин собой любовался. Единственный сын у матери и души она в нем не чаяла. Вот пошли они, побежали купаться, а мать Тетерина уже тут как тут: как же, задержался ее ненаглядный сыночек, поздно ночью один по улицам возвращаться будет. Как узнала, что они купаться ночью пошли, побежала заследом. «Куда ты побегла? — говорю. — Дай ты сыну хоть чуть от юбки твоей оторваться». Это Инна вовлекла Тетерина в организацию. Ребята не хотели, но она за него поручилася. Сама у немцев в гарнизоне работала, немецкий офицер за ней сильно ухаживал, жениться хотел. Очень красивая девочка была. Верили ей немцы. И мать ее врачом работала, и в доме у них немцы бывали. Мать ничего не знала. Она всё нам говорила, когда мы передачи носили: «Это какая-то ошибка, Инна по ошибке попала». А как узнала, что ее расстреляли, уронила сумку с передачей — посыпались черешни и ягоды… Хорошая девочка была. Незадолго до того, как арестовали ее, приходила до моего Толика — мол, уехать хочу, маме предлагают на Украине какое-то место, сердце болит у меня, по краю ходим. А Толик не разрешил ей: «Ты здесь нужна», — сказал. Выдал её Тетерин. И всех выдал. Один мужчина рассказывал. В очереди за Тетериным был он на допрос, даже на корточках перед дверью присел, так заслушался: всех выдает, всё рассказывает, не передохнет. Да и наши ребята знали, на очных ставках были, в записках передавали, на спинах в окно писали: «Тетерин предатель».
— Они уже знали, что кругом провалы. Домой не приходили. Встречались на базаре: мимо пройдем, что надо — скажем. Они втроем ночью через воду уходили. Знали, где мелко. Когда прожектор — под водой сидели. А потом Юру в ногу ранило. Тот, третий, не знал, он впереди шел, а мой следом за Юрой. Юра говорит: «Уходи». А мой его не бросил. Они были как братья, ближе не бывает. Немецкий катер их и подобрал. В полиции они сидели с двумя стариками, старики сидели из-за паспортов, потом они передали нам от них весточку. Старик рассказывал: ребята заранее условились держаться независимо. Когда вошел немец, полицай крикнул им: «Встать!». Старики встали, а Толик с Юрой сидеть на полу продолжали. «Что будет-то, ребята, что будет?» — спрашивали их старики. «Батя, да выпустят вас!» — «Ох, и не знаем, сынки. А вам-то, вам-то что будет?». А Юрка, рассказывал дед, смеется и рукой по шее похлопывает. Так и в тюрьме, когда стояли мы под окнами, всегда они вдвоем выглядывали. Moй-то показывает: мама, не плачь, мол. А Юрик за его спиной смеется и кланяется. Он и всегда как артист был. То шляпу такую наденет — как артист в кино, то лицом что-нибудь изобразит. А мой-то — не плачь, показывает, мама, не плачь…
— Пятьдесят мальчишек надумали убить предателя. Выдал их сын одного полицейского. Забрали их. Мать тринадцатилетнего пацана побежала к знакомому из полиции: «Ради бога, дай хоть взглянуть на него!» — «Очень хочешь? Неси пять тысяч». Бегала по всем знакомым, соседям — собрала, принесла. Открыл он ей сарай, показал — все пятьдесят, как барашки, с высунутыми синими языками висят.
— Похуже — отсиживались, гибли лучшие. Какие ребята, какие девчонки были!
Ей показывали их фотографии.
Сережа Гельц, сын австро-венгра. Своенравное лицо с широкими, распахнутыми глазами, со смешливыми уголками губ. И почти все его карточки с моделями самолетов.
Володя — Марии Мироновны сын — «сросшие бровки», мечтательное, страстное лицо. Юра Калуш. В лице и дерзость, и даже высокомерие — но, в то же время, и мягкость, и доверчивость, словно и дерзость, и высокомерие — не всерьез, для игры. Какое изменчивое лицо. От острого цепкого взгляда до рассеянно-вдумчивого, пристально-темного, ушедшего вглубь. От дерзкой улыбки веселого, открытого лица до улыбки мягкой и скромной. Кисти рук длинные, тонкие, как у отца-гуцула. С нею вместе смотрел на фотографию сына старый Калуш, еще и сейчас красивый, горбоносый, как сын. Трогал тыльной стороной руки желтый лоб, бормотал:
— Справный, на всё ладный… То греком, то немцем звали. В кого ни переоденется, ко всем подходит… В науку влегал. «Жениться не буду, пока не стану профессором»… Ничего, ничего не осталось… Конечно, надо молодежь учить. А только это всё теперь уже без пользы. Не воротить. И людей таких уже не будет… Унук… Унук, я говорю — разве то? Ничего даже похожего нет: ни послушать, ни посмотреть не на что. А оне за них жистъ положили.
Он машет пренебрежительно и горько коричневой, сучковатой рукой с зажатым в ней платком.
Мария Мироновна тоже говорит:
— Светлая им, конечно, память. А только не поднять их. Господи, без рук, без ног бы были — на коляске возила бы их и гордилась. Только бы живы были, только бы глазоньки их смотрели! Господи, о, господи! Может, конечно, никакого Бога над нами и нет — одна Природа. Но нужно же человеком быть! Подлецом трудно, ох как трудно быть!
Подлецом — трудно? Лучшие погибли, а этот — сосед ее, доносчик, предатель, который «подтверждал и дополнял», отсидел свое к вернулся в дом, из которого следил за нею, и вот, мирно копался в своем саду, растил детей и внуков. И те, что терпеливо стояли в очереди доносчиков — длиною в квартал: преданные ими уже не опознают их, они тоже живы и благополучны. Им — трудно, совесть их мучит?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
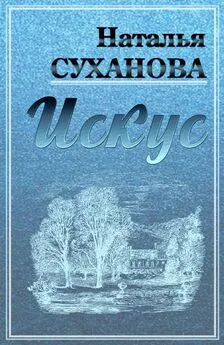






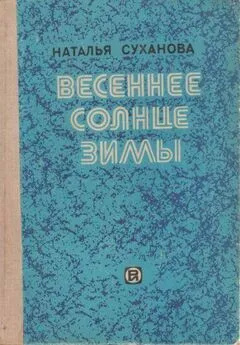
![Наталья Суханова - Вода возьмет [СИ]](/books/1143085/natalya-suhanova-voda-vozmet-si.webp)
![Наталья Суханова - Синяя тень [сборник рассказов : СИ]](/books/1143087/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s.webp)
