Наталья Суханова - Искус
- Название:Искус
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Суханова - Искус краткое содержание
На всем жизненном пути от талантливой студентки до счастливой жены и матери, во всех событиях карьеры и душевных переживаниях героиня не изменяет своему философскому взгляду на жизнь, задается глубокими вопросами, выражает себя в творчестве: поэзии, драматургии, прозе.
«Как упоительно бывало прежде, проснувшись ночью или очнувшись днем от того, что вокруг, — потому что вспыхнула, мелькнула догадка, мысль, слово, — петлять по ее следам и отблескам, преследовать ускользающее, спешить всматриваться, вдумываться, писать, а на другой день пораньше, пока все еще спят… перечитывать, смотреть, осталось ли что-то, не столько в словах, сколько меж них, в сочетании их, в кривой падений и взлетов, в соотношении кусков, масс, лиц, движений, из того, что накануне замерцало, возникло… Это было важнее ее самой, важнее жизни — только Януш был вровень с этим. И вот, ничего не осталось, кроме любви. Воздух в ее жизни был замещен, заменен любовью. Как в сильном свете исчезают не только луна и звезды, исчезает весь окружающий мир — ничего кроме света, так в ней все затмилось, кроме него».
Искус - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Да, тут уже мало было стихов. Виделась книга фантастических рассказов о сумасшедших. Складывалась речь рассказчика: «Я уже заметил, внимательно прислушиваясь к сумасшедшим: их идеи — это попытки упростить сложную жизнь, провести через множество точек единственную линию. Иногда же это, наоборот, стремление усложнить, усложнить, в первую очередь, наличное, бытовое — чтобы уже не думать о больших сложностях». На последнюю мысль навела Ксению история племянницы маминой подруги — с невероятным выкладыванием сил заставляла эта шизофреничная молодая женщина своих близких подходить к столу так, а не этак, выходить на улицу с определенной чередой движений и слов, определенным образом ставить стул и разворачивать кровать. У нее была непосильная для нормального человека символика движений, мистическая значимость каждого шага.
«— В конце концов, я единственный нормальный во всем этом сумасшедшем доме, — говорил помешанный, любезно придвигая художнику Альберто кресло, сам он усаживался напротив, с аристократической небрежностью обмахиваясь больничным полотенцем. — Единственный нормальный! Вы мне, конечно, не верите? Но ведь это очень легко доказать. Чем отличается нормальный человек от сумасшедшего? Чувством юмора, не так ли? Разве вы не замечали, что сумасшедшие, при всем различии проявлений ненормальности, начисто лишены этого чувства? Все они и пальцем не шевельнут просто так, ведь они уверены, что каждый их шаг имеет глубокий смысл, что стоит им не так шагнуть — и мир погибнет, провалится в тартарары. Ах если бы вы знали, какие комичные это люди! Зачем мне менять место жительства? Нигде уже не будет так смешно! Каждый из них, как муха, оцепеневшая от страха, что если она поползет не в ту сторону, мир может погибнуть. Все они спасители мира! Ничто не может быть забавнее этих оцепеневших или суетящихся букашек! Ха-ха-ха-ха!
Художник терпеливо слушает, стараясь не смотреть на больного — он уже знает, в какое бешенство приходит этот — с изысканными манерами — умалишенный, если заметит сострадание в глазах собеседника. За этим помешанным особенно тщательно следят санитары — раза три-четыре в день балагур пытается покончить с собой…»
Писать, писать! Чтобы в этих рассказах были и сумасшедшие, и те, что думают о них, и такие, и этакие душевнобольные.
Алеша тоже угодил в психиатрическую. Узнав, что он уже нормален, она поехала к нему. Он помнил свой бред даже с некоторым сожалением: так ярко и разумно было всё в его сумасшедшем мире.
— Понимаешь, — говорил сосед, поглаживая обожженную руку (в бреду он ожога не почувствовал, сейчас обожженное болело), — я, так сказать, был из третьего поколения пророков. Первые — еще библейские, вторые — Христос и двенадцать апостолов. А я — из духовных сыновей. Мир, каким он должен быть, так ясно лежал передо мной. И в моей жизни все оказывалось подготовительным для подвига. И сам подвиг был нетруден. Нужно было только погромче сказать. Не погромче — послышнее. Сейчас вот тот мир, каким я его увидел, тускнет, а мне жалко. Уже знаю, что ерунда, а жалко. Я сейчас вроде на пригорке: назад вижу — мир уже маленький, а всё же теплый и такой разумный. А зайду за пригорок — и всё. Даже не так. Как вроде цветные лампочки горели, а теперь видишь, что и были-то только стеклянные лампочки. А жаль. В том мире вся твоя Вселенная была чепухой, обманом. А Бог был. Только не видный до поры до времени. Как в рисунке — ну, как это называется? — для детей на внимание, наблюдательность: какие-нибудь деревья, ветки и — «что ты видишь?» или «найди пионеров», или там, пограничников — а ты ничего не видишь, шаришь глазами по рисунку, и вдруг: да вот же он! И уже непонятно, как мог ты его не видеть. Так и тут: да вот же он, Бог! Только покажи, и все увидят. А пока не видят, тебя и сжечь могут. Но ты и это прими. Потому что сожгут — и тогда-то и увидят. Даже, может, в тот момент, когда ты уже запылаешь, еще жив, но уже без возврата — вот тогда-то и увидят. Так мне это представлялось. И что я-то и буду последней искупающей жертвой. Сейчас понимаю, что ерунда и бред…
— А штепсель?
— Штепсель? А-а, — он повторил движение обожженной рукой — двумя пальцами, как вилкой в розетку, сначала горизонтально, а потом вертикально, крест-накрест. — Тоже так ярко представлялось: мол, зло и добро просто крест-накрест, только и всего, а так одно и то же, и это тоже так хорошо, так прекрасно знать… Знаешь, я ведь не в первый раз в апостольство впадаю. Было у меня однажды, мы с ребятами-шибаями дом ставили на селе хозяйчику. Как-то выпили. А работа не ждет. На другой день похмелились и впряглись снова. Ребятам оно даже спасение, а мне нельзя прерывать. Вот я и подвинулся мозгами в сторону апостольства. Ребятам некогда, они бы меня вообще оставили приходить в себя самостоятельно, но я чуть хозяйку не рубанул топором — тоже из апостольских соображений: так надо было, так Бог мне диктовал. Ну, тогда отрядили одного, посильнее, со мною в райцентр, чтобы в больницу меня поместить. А они не помещают — прописки нет, мест нет. Он меня обратно хотел отвезти, телеграмму уже матери дал, да я от него сбежал — мне проповедовать надо было. Явился на автобусную станцию и от бачка с водою проповедь начал. Оно бы и тут — посмеялись, да и только, но я к бачку никого не подпускал — вода была святая, и рано еще было вкушать ее непосвященным. Ну, кто-то милицию вызвал. Они хотели меня взять, а я: не имеете права прикасаться, на колени, нечестивцы! И метанул одного-другого. Пока вязали, я еще метанул. Тут они, правда, стерпели, а в милиции, связанного, отметелили меня — нос перебили, ногами так лупцевали, что я, спасибо им, от боли в себя пришел. Утром они струхнули: думали, я пьяный, а тут другое. Выпустили — я гол как сокол, ватник в крови запекся, нос раздуло, глаз затек пузырем гнойным, из щетины кровь не вычистить, а мне хорошо — иду, улыбаюсь, а навстречу матушка моя, по телеграмме прибыла, божий одуванчик мой, получайте подарочек — сынок ненаглядный, в крови (уже вчерашней), хоть и страшненький, зато в здравом уме и ясной памяти, знаю, что мир кодло, а хорошо мне, улыбаюсь, солнцу радуюсь и ненавижу я двенадцать этих апостолов с их штепсельной мурой. Только вот и бывает хорошо, когда из запоя да из помешательства в нормальный мир вернешься. А больше — тоска, в гробину ее мать.
Апостолам, им только по камешкам — меж камешков-то глуби, с головкой закроет.
Писать, писать!
Сумасшедший, замкнувший дугу времени в благостный круг — это один рассказ. Второй — мелкая, круглая идейка, а вокруг неё горы чувств, восторгов и ужасов. И ещё один — близкий по теме — Феликсоград, как эксперимент библейского рая, только проще — минимум атрибутов, но люди счастливы. Им даже не нужно ставить оград вокруг местности эксперимента — просто волна счастливости ослабляется по мере удаления от Феликсограда, кто же уходит от счастья? Мир феликсоградцев удручающе скуден, но воспринимают они его с изобилием эмоций восторга, как дети дешевую фантастику. И… что? Сила эмоций углубляет ли мир наличный? И много ли значит абсолютная величина эмоции? Или звук, даже очень сильный, как грохот в бесталанной симфонии, ничего не дает? Оглушает уши, но не душу. Разность в тоне значит больше, чем сила звука. Отношение. Теория относительности. Не агностицизм, а подлинная гностика. Разность в тоне и соседство этих разностей больше говорит о мире, о пропастях и вершинах. Мир должен сделать свой следующий шаг — и музыка интервалов, соотношение напряженностей отразят этот шаг…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
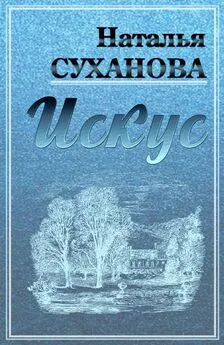






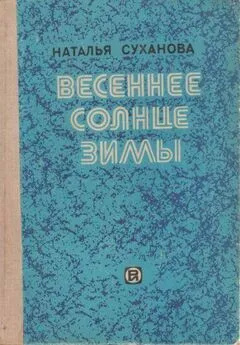
![Наталья Суханова - Вода возьмет [СИ]](/books/1143085/natalya-suhanova-voda-vozmet-si.webp)
![Наталья Суханова - Синяя тень [сборник рассказов : СИ]](/books/1143087/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s.webp)
