Наталья Суханова - Искус
- Название:Искус
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Суханова - Искус краткое содержание
На всем жизненном пути от талантливой студентки до счастливой жены и матери, во всех событиях карьеры и душевных переживаниях героиня не изменяет своему философскому взгляду на жизнь, задается глубокими вопросами, выражает себя в творчестве: поэзии, драматургии, прозе.
«Как упоительно бывало прежде, проснувшись ночью или очнувшись днем от того, что вокруг, — потому что вспыхнула, мелькнула догадка, мысль, слово, — петлять по ее следам и отблескам, преследовать ускользающее, спешить всматриваться, вдумываться, писать, а на другой день пораньше, пока все еще спят… перечитывать, смотреть, осталось ли что-то, не столько в словах, сколько меж них, в сочетании их, в кривой падений и взлетов, в соотношении кусков, масс, лиц, движений, из того, что накануне замерцало, возникло… Это было важнее ее самой, важнее жизни — только Януш был вровень с этим. И вот, ничего не осталось, кроме любви. Воздух в ее жизни был замещен, заменен любовью. Как в сильном свете исчезают не только луна и звезды, исчезает весь окружающий мир — ничего кроме света, так в ней все затмилось, кроме него».
Искус - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Ну, что ж, что пожилой, зато бегать не будет, детишкам с огорода свежий овощ.
Или:
— А где же их теперь, ровесников, взять? На четвертом десятке без семьи кто? — только увечные да пьяницы или уж вообще! Всё лучше, чем в девках-то вековать.
И еще чище: «Поздравляем! Поздравляем!» — и взгляд искоса на ее живот, не вспух ли уже добрачным ребенком.
Гладиатор молчал.
Дома, в Джемушах, куда съездила Ксения (чин-чином — с мужем), легкая растерянность родителей: как называть такого зятя? Васильчиков же был очень естествен. Два дня не вылазил из сада родителей — всё у них там наладил, да и силу и выносливость показал отнюдь не пожилого, комиссованного человека. О чем и сказала ему мама как бы в одобрение. Но он и тут оказался сильнее: не потупился, не принял с какой-нибудь подходящей шуткой, а серьезно сказал, что комиссован не по телесным изъянам, а по головному — последствию тяжелой контузии. Мама кивала и улыбалась, но сделалась при этом очень грустной.
Отцу Васильчиков потрафил не только в саду, но и за столом: обычно не пьющий, отвергающий с ходу всякие посягательства на него в этом отношении, на этот раз он хорошо выпил, дав возможность отцу не раздражаться за столом в бабском обществе. В то же время Васильчиков и не опьянел, и не потянулся допить или раздобыть еще бутылочку, так что и маму он успокоил на этот счет: пусть немолод, пусть инвалид, но крепок, трезвенник и Ксеничку обожает. И все-таки в глазах отца, когда взгляд его обращался на Ксению, была тоска.
Ксения рассеянно слушала отца с Васильчиковым. Из соседнего санатория, с открытой площадки доносилась музыка. Не линда, которую так здорово танцевал Меланиди, то останавливаясь как вкопанный, то срываясь стремительно с места. Тогда это уже не называлось линдой, как сразу после войны, а быстрым танцем, потому что была пора борьбы с космополитизмом. Две руки, протянутые к ней: Сурена и Графа. Сурен теперь уже биолог, трудится, говорят, день и ночь, кандидатскую вот-вот защитит, женат на женщине старше его, доктор наук вроде бы, вынянчила его в какой-то тяжелой болезни, опекает. Граф тоже специалист, на ком-то женат. Протянутые к ней две руки, Сурена и Графа, у которых ещё впереди не служба и жена, а тайны живой материи, и каналы Марса, и сияющая любовь. И Меланиди, смеющийся издали: для него-то всё в настоящем, он красив и ловок, и кого угодно может увести от любого очкарика. Как много лет назад, из соседнего санатория доносится музыка: «Я знаю остров, как луна, серебристый». Только она твердо теперь знает, что это танцы, а не серебристый остров за деревьями, в круге душистой темноты. Серебром, оказывается, вообще была не любовь, а мечта и обещанье. Что ж, она ни о чем не жалеет.
Через пять дней вернулись они в Казарск и приступили вплотную к семейной жизни. Не очень современно, конечно, но устроили они свою жизнь по Чернышевскому.
— Ты талантливее меня, — сказал Васильчиков. — Боливар двоих не снесет. Я на тебя жизнь положу. Ты — пиши. Ты уходи с работы. Работать буду я.
С работы, правда, она не ушла. Но что такое шестьсот рублей в бюджете семьи? Васильчиков устроился газооператором. На нем еще были огород и сад. Он и на базаре торговал — весело и достойно, потчуя потом ее рассказами о базарных историях. Если бы он писал так, как рассказывал! Обеды готовили по очереди — Васильчиков всегда вкуснее, чем она. Он ее и в самом деле боготворил. Все силы своего отвращения и ненависти обратил он на не знавшего, не ведавшего обо всем этом Кирилла, за то, что пьяница, что чуть не испортил ей жизнь. И возлюбил себя за любовь к Ксении, за готовность лелеять ее и поддерживать, за преклонение перед ней, за то, что оказался достойным ее. К покойному Виктору он относился вопросительно — не мог понять, как тот мог сам отказаться от нее, не мог понять и ее, но не настаивал на разъяснениях. Больше ни о ком и речи не было. Васильчиков заикнулся было: «Мы должны всё друг другу рассказать обо всей прошлой жизни, чтобы наши жизни уже навсегда друг в друга вошли!». Всё в ней вздыбилось: ну уж нет! Нет и нет! Это ей напомнило лунную ночь в Захоже и их разговор с Фридрихом о луне. О чем только не говорят интеллигенты, вместо того, чтобы флиртовать, радоваться жизни, наслаждаться! После они еще ругались с Фридрихом — из-за деревни и социализма, и, может быть, это было не так уж далеко от того, сколько лун в небе, и нужно ли, чтобы луна была едина для всех и чтобы человечество и само слилось в счастливом единстве. Как Бог-Омега Тейяра де Шардена.
Тейяра дал ей почитать Фридрих, философов — Тейяра и Бердяева. Бердяев ее не очень заинтересовал. Зато Шарден поразил: были у него открытия, предчувствованные ею. Например, нащупывающий случай. Случай не случаен — она давно ощущала это. Случай — не пересечение необходимостей, как толковал им в лекциях по статистике Добронравов. Пересечение необходимостей — в сущности, всё тот же лапласовский детерминизм. «Нащупывающий веер в конце мутовки закрепившихся форм» — веер отличий и особенностей, веер случайностей, пробегание по этому изменчивому спектру — без этого не быть невероятному.
И оказалось «sens» во французском не только чувство, но и смысл, и значение, и рассудок, и направление. Чувство не оторвано ни от рассудка, ни от смысла, а смысл, значение и направление — по сути едины. Именно от этого, от чувства-знания, от чувства-значения, от кирилловского «мысль почувствовать», от толстовской невозможности жить без знания «что выйдет из моей жизни», от гегелевского «ощущения неудобства» как порождения неистинности кантовской абстракции — шёл тейяровский анализ нынешнего онтологического беспокойства. «Недуг бесчисленности и необъятности» — ну с этим-то недугом она уже справилась. «Недуг тупика» — так называлось по Тейяру ее давнее заболевание. Тут было совпадение вплоть даже до слов. «Будет ли мир развиваться и дальше?» и — «Продвинувшись до человека, не остановится ли мир в своем развитии?». Недуг тупика — вот чем мучилась она долгие годы, зная, что умножение различий — еще не всё — миру нужна молния, событие, сдвиги в иное, высшее. Рассудок, как одиннадцать апостолов, идет по камушкам, двенадцатый же апостол видит глубины, которые к камушкам не сведешь, как не сведешь к точкам путь, как не сведешь к расстояниям меж камушками глуби, которые минует шаг, движение. Минует или в этом движении осваивает? Не бесконечности состоят из конечного, конечное состоит из бесконечностей.
Но Тейяр — что же он делает? Восславив форму-особенность в виде личности нации, отечества или культуры, восславив персонализацию универсума, приобретение эволюцией в человеке свободы располагать собой, куда же выводит он? Не выводит, а сводит! К Омеге, к последней букве, к концу, вливает все особенности в сверхличность — «отчетливый центр, сияющий в центре системы центров», в «последний член ряда», который «вместе с тем вне ряда», «экстаз вне размеров и рамок видимого универсума». Экстаз — для того, чтобы не было чувства тупика. Но тупик-то, пусть сияющий, все-таки есть, уважаемый Тейяр де Шарден! Та же штука, что у Бердяева — всего лишь две возможности: истина и ложь, смерть и вечная жизнь, отчаянье и экстаз. Экстаз — прекрасно, но это что — и весь выбор? Выбор, не более значимый, чем у замордованного соседского ребенка: «Выбирай, оболтус, с кем тебе жить: с мамой или с теткой Райкой! Она тебя научит свободу любить, она из тебя т а к о е сделает! И будешь звать ее мамкой!». Да и зачем шарденовскому экстазу, шарденовской Омеге разнообразие и личности? Как у Гегеля личность — недосущность, к сущности только стремится, так и у Шардена личность оказывается той промежуточностью, которая определена либо к Омеге, либо к небытию. Личность у них, по большому счету, не нужна, как не нужны казались озерищенскому Фридриху разные луны, лишь временно искажающие единственно сущую луну.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
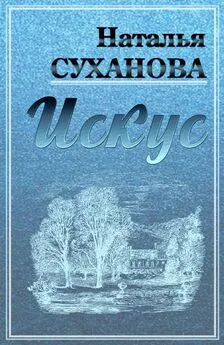






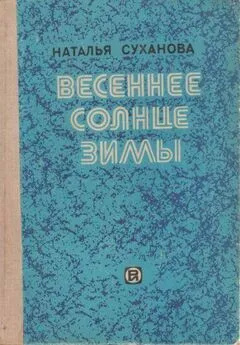
![Наталья Суханова - Вода возьмет [СИ]](/books/1143085/natalya-suhanova-voda-vozmet-si.webp)
![Наталья Суханова - Синяя тень [сборник рассказов : СИ]](/books/1143087/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s.webp)
