Наталья Суханова - Искус
- Название:Искус
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Суханова - Искус краткое содержание
На всем жизненном пути от талантливой студентки до счастливой жены и матери, во всех событиях карьеры и душевных переживаниях героиня не изменяет своему философскому взгляду на жизнь, задается глубокими вопросами, выражает себя в творчестве: поэзии, драматургии, прозе.
«Как упоительно бывало прежде, проснувшись ночью или очнувшись днем от того, что вокруг, — потому что вспыхнула, мелькнула догадка, мысль, слово, — петлять по ее следам и отблескам, преследовать ускользающее, спешить всматриваться, вдумываться, писать, а на другой день пораньше, пока все еще спят… перечитывать, смотреть, осталось ли что-то, не столько в словах, сколько меж них, в сочетании их, в кривой падений и взлетов, в соотношении кусков, масс, лиц, движений, из того, что накануне замерцало, возникло… Это было важнее ее самой, важнее жизни — только Януш был вровень с этим. И вот, ничего не осталось, кроме любви. Воздух в ее жизни был замещен, заменен любовью. Как в сильном свете исчезают не только луна и звезды, исчезает весь окружающий мир — ничего кроме света, так в ней все затмилось, кроме него».
Искус - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— По-твоему, будь она добронравной смолоду, и она была бы счастлива? Некрасивая, после войны, когда двадцати миллионов мужиков как не было!
— В высоком смысле, да, она была бы счастлива. Во всяком случае, не была бы так несчастна.
— Да она была бы в тысячу раз несчастнее!
— Она бы не растратила себя до времени.
— Она бы засохла до времени. Не будь у нее плохой репутации, Алексей Иванович ее вообще бы не заметил. Некрасивые, добродетельные библиотекарши вообще никому не нужны.
— Она бы сохранила себя для любви.
— Философия собственника, чисто мужская философия! Нет ничего, видите ли, важнее, чем принести наконец-то осчастливившему мужу живую собственность в не потраченном виде!
— Постой, я понимаю, почему ты сердишься. Прости меня, дурака! Ты принимаешь то, что я говорю о Лизавете, на свой счет.
— Этого еще не хватало!
— Ну и все, ну и не будем об этом! Я уже не тот, моя ласточка! Ах, ты сама не понимаешь, что ты написала! Сплошь и рядом писатель сам не понимает, о чем его вещь. Я жалею, что не могу написать о тебе критическую статью. Ах, если бы это напечатали! Сколько женщин узнало бы себя в бедной Лизке, сколько заблудших душ по-другому построили бы свою жизнь!
— Слушай, Васильчиков, прекрати, иначе я выкину рассказ!
— Всё! Всё! Ах, какая глубокая вещь!
В палате интересовались:
— Чего это ты ругалась со своим старичком?
— На литературные темы.
— А за какого писателя?
— Насчет Хемингуэя.
— А что написал? Я такого не слышала. Еврей?
— Американец.
— Самые развратные писатели — французы.
— Мне бы с мужем о писателях ругаться! — говорит тоскливо худенькая, как девочка, молоденькая женщина.
Сегодня в вестибюле она свиданничала с мужем одновременно с Ксенией.
— Всё будет хорошо! — говорил он ей уже от дверей.
Положили ее с кровотечением. Пробовали сохранить, но уже нечего было сохранять. У них с мужем разные резусы. Это третья ее беременность. Первая девочка умерла в родах. Следующих двух она и до середины не доносила. А муж мечтает о ребенке.
— Как помешался! Всех ребят со двора соберет, возится с ними, я бы их поубивала! Уйду — реву. Он придет: «Ты только не волнуйся — теперь обязательно доносишь!»
— Да уж сказала бы ему, что чистили!
— Пошел он к черту! Еще успею сказать, — вытаскивает кулек из тумбочки. — Вот помешанный: «Тебе и маленькому». Откуда он только взялся, этот резус? Я первой девочки врачам не могу простить — такие муки, под капельницей лежала, шевельнуться нельзя, а муки какие, губы в кровь искусала, — неужели не могли спасти? «Все хорошо, мамочка, все хорошо. Потерпите, вы не одна, мамочка!». Он меня доведет с этим ребенком — я вообще от него уйду!
И плачет.
Вернувшись в свой отдел кадров, Ксения снова вела счет дней наоборот: восемьдесят семь дней до декретного, до свободы, восемьдесят один, семьдесят девять. В вестибюле еще и веселее было стоять. Проходил ласковый Нестеров: «А я за вами шел. Смотрю — катится колобок». Проходил маленький директор, за ним Хорошев. С обостренным ненавистью взглядом видела она кокетливую косолапость нового секретаря и кивающую походку директора. У тети Клавди тоже была кивающая походка, но это было похоже на кивающую поступь не выходящей из упряжи лошади. У директора в его походке было что-то от привычки хитрого царедворца кланяться. И скользил он за угол коридора, как бы растворяясь в углах, в бюрократических кабинетах, в извивах формулировок. Как червь в сыре, думала она с мгновенным сердцебиеньем, возбужденном ненавистью. Один за другим проходили сотрудники административного корпуса. Проносились студенты, еще не обмороченные неживой работой — этих старосты учитывали, номерков им снимать не нужно было.
Ее счет дней до декретного скрывал еще один — тайный из суеверия — счет: до номера журнала, в котором должны были появиться ее рассказы. Но словно она не все еще приметы соблюла, номер немыслимо задерживался: прошел месяц и истекал второй, а его все не было. Когда же, долгожданный, он наконец появился, все оказалось ужасно: и сам журнал какой-то невзрачный, и маленький шрифт в два газетных столбца, и рисунки. Но что еще ужаснее — были фальшивы рассказы, написанные вдобавок вязким, фальшивым языком — то, что она хотела вложить в рассказы, тонуло в этом языке.
Она даже не стала никому говорить о публикации. Узнали сами. Нестеров был растроган и показывал ей свои стихи, рассказывал, что знакомая в издательстве уверяет, что это гораздо лучше «творений» профессиональных поэтов. Федя уже не Васильчикову, а ей предлагал для фантастического романа научно разработанную идею человеческого бессмертия. Начальница в отделе кадров поздравляла. При этом каким-то образом читавшие видели в ее рассказах именно то, что хотела она в них вложить: закрытое от нее, для других это проступало.
Но как же она теперь зависела от мнений. Не печатаясь, она была уверена, что и умна, и талантлива. Теперь о ней судили другие — по делу, и каждый раз ее мнение и о себе, и о рассказах менялось, и это унижало. И все-таки публикация была чем-то вроде ликвидации затянувшегося девичества.
— Ну вот, на этом и всё, — так же спокойно как поздравил, сказал ей Королёк, одновременно узнавший о ее публикации и беременности. — Это твое начало, это и твой конец. На том прощайся, старуха, с литературой — дальше тебе не до нее уже будет. Дальше ты просто забудешь об этом думать, и захочешь, да уже не вспомнишь, как за это берутся.
Она и сама втайне страшилась этого. Теперешняя неспособность сосредоточиться дольше десяти-пятнадцати минут на головной работе представлялась ей предвестницей физиологически неустранимого умственного оскудения.
Из журнала позвонили, сообщали о хороших отзывах, предлагали делать очерк, но уже не успеть было. Было ещё и другое — ее разыскал режиссер Казарского драмтеатра, предложил сделать вместе пьесу по рассказу о подпольщиках. Первой ее мыслью было: не хочу, не могу, отстаньте! Но ведь не одна, и как упустить такую возможность!
Собирались у них. Вертясь по их крохотной комнатушке, режиссер выстраивал сцену за сценой, они же с Васильчиковым на лету записывали. Около часа продолжалась такая работа, а потом наступал обед. Режиссер с удовольствием выпивал. Васильчиков не любил выпивок и пьяных, но теперь безропотно закупал спиртное и даже — чтобы режиссер не обиделся, пил вместе с ним. Ксения не пила. Пристроив живот с ребенком удобнее на диване, она полулежа активно поддерживала разговор.
— Мне чего хочется, — говорил режиссер, — чтобы вот упала на сцене вилка — и на это откликнулись нервы всего зала! Или — висит пеленка. Она не играет в течение первого действия, второго, третьего, а в самом конце в нее вдруг утыкается человек и плачет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
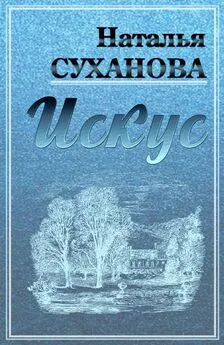






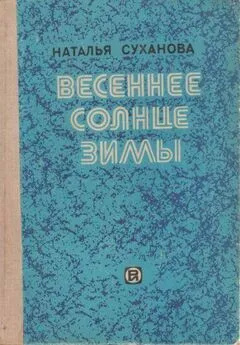
![Наталья Суханова - Вода возьмет [СИ]](/books/1143085/natalya-suhanova-voda-vozmet-si.webp)
![Наталья Суханова - Синяя тень [сборник рассказов : СИ]](/books/1143087/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s.webp)
