Наталья Суханова - Искус
- Название:Искус
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Суханова - Искус краткое содержание
На всем жизненном пути от талантливой студентки до счастливой жены и матери, во всех событиях карьеры и душевных переживаниях героиня не изменяет своему философскому взгляду на жизнь, задается глубокими вопросами, выражает себя в творчестве: поэзии, драматургии, прозе.
«Как упоительно бывало прежде, проснувшись ночью или очнувшись днем от того, что вокруг, — потому что вспыхнула, мелькнула догадка, мысль, слово, — петлять по ее следам и отблескам, преследовать ускользающее, спешить всматриваться, вдумываться, писать, а на другой день пораньше, пока все еще спят… перечитывать, смотреть, осталось ли что-то, не столько в словах, сколько меж них, в сочетании их, в кривой падений и взлетов, в соотношении кусков, масс, лиц, движений, из того, что накануне замерцало, возникло… Это было важнее ее самой, важнее жизни — только Януш был вровень с этим. И вот, ничего не осталось, кроме любви. Воздух в ее жизни был замещен, заменен любовью. Как в сильном свете исчезают не только луна и звезды, исчезает весь окружающий мир — ничего кроме света, так в ней все затмилось, кроме него».
Искус - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Скажите, вы согласны, что трех из этих пяти критикованных надо было бить? Ведь надо? Надо! Почему же их поднимают всех пять вместе?
— Протест! Их объединяет протест! Все они хотят перелома.
— Ну ладно, вы нападаете на отцов. Ну а вы сами — что вы? Если в МГУ физики вычисляли тему «Физики или лирики», то в Казарском технологическом — «Если попадут на необитаемый остров, кто кого раньше сожрет».
— Учиться у классиков? А почему, собственно, надо повторять Маяковского: «От мух кисея, сыры не засижены»? В теперешней действительности, когда тысячи холодильников и ни одной человеческой души? А монологи битников именно отсюда. Это же действительно противоречие!
— Нужно бить, но не так бестактно! И что поставить в пример?!..
— Конечно, талантливы. Не были бы талантливы — и разговора бы не было. Из-за мелочи совещания не собирают.
— А какая гадость его выпад против Ошанина. Да ошанинские «Дороги» солдатам идти помогали. А он, молокосос, осмеливается говорить.
— А почему Есенин и Маяковский, Толстой и Фет могли не принимать друг друга и никто не пихал их, не одергивал? А тут сразу! Может, Ошанин действительно мешал нам всем встретиться.
— Это всё чепуха. Нужно не это — нужно убрать «дубовую мебель» из кабинетов.
— Ха-ха! Кто будет убирать? Вы же все только кричать мастаки. Подождите: дети нам предъявят те же претензии, что мы отцам. Отцы хоть отстояли нас в Отечественную.
— Придется — и мы отстоим: пойдем и умрём.
— А я вот сомневаюсь.
— Ну и сомневайтесь. А мы себе животы в Антарктиде взрезаем и оперируем.
— Объясните мне: как это — «не понимали»? Мама и я знали, что отец невиновен. А они не знали?
— Дело не в том уже, что натворили — дело в том, чтобы понять, что нужно.
— Здравствуйте — «что нужно?»! Что нужно — еще Лениным сказано!
— Сказано, да глубоко захоронено, а остальное наврано да Ленину подсунуто.
— Шолохов вот молчит. Кому нужны его байки про войну? Его слово сейчас нужно.
— Наивнячки! Как раз таким, как он, в первую очередь и затыкают рот.
— Чего ему затыкают? Сам заткнулся.
— Спился.
— А! Сбегает в запои. Как Фадеев.
— Ему можно. Он уже написал свой «Тихий Дон».
— Да, Гришка уже отмучился.
— Ой, а вы мучаетесь, бедненькие!
— До какой поры нам будут диктовать, как что понимать и что делать? Дайте нам самим разобраться. Дайте нам говорить то, что мы думаем!
— А вас не смущает, что Никита Сергеевич говорит как булочник?
— А что, булочники уже «не того»?
— Ну, а если не по форме, а по содержанию?
— Нельзя диктовать искусству.
— Диктовать нельзя, а направлять нужно. Что ж, в Америке, думаете, не направляют? Покосвеннее и пооплатнее разве что…
— Мне кажется, нам не хватает сейчас революционного задора… какой был в первые годы советской власти, который есть сейчас на Кубе.
— Нужно принимать не просто к исполнению, а к мысли, правда?
— Ничего! Мы разберемся в наших «почему»!
Не разобрались. До сих пор не разобрались. Всё обросло новыми « почему »!
Воронов предложил на обсуждение своим литобъединенцам новый рассказ Ксении — не хуже тех, что были напечатаны. Выслушав прочитанное в тяжелом молчании, с холодными или потупленными глазами, объединенцы разнесли ее рассказ — камня на камне не оставили. Было как-то неловко от такого дружного избиения. С улыбкой она поглядывала на Воронова: говорила же ему! Ничего-ничего, — поглядывал и он на нее, — все тип-топ, ничего страшного. Ни одним вопросом или замечанием не перебил выступающих. В заключение же неторопливо, умело и аккуратно собрал разбросанные каменья. Но глаза литобъединенцев опустились, замкнув несогласие и непримиримость.
— Н-да-с! — похохатывал Воронов, проводив непримиримых участников обсуждения. — Ничего. Живы, Ксения Павловна? Что делать, путаница в мозгах великая, а в сердце страсти клокочут.
И — экскурсы в историю. О том, что большевики в начале были ведь, в сущности, меньшевиками — большое, как известно, начинается с ничтожной, неустойчивой искорки. Что для советской власти, которой так-таки не было и нет, народ еще должен быть воспитан, но кроме как на этой же власти, народу расти не на чем. Подобные темы назывались: «Кстати, о народе».
Воронов только что приехал из Москвы, где общался с той самой творческой интеллигенцией, с представителями которой встречался генеральный секретарь.
— Я, Ксения Павловна, до поездки тоже очень подавлен был всеми этими совещаниями и встречами. А насмотревшись в Москве, понял: все-таки это нужно было. Для нас, для провинции еще рано — мы и головы еще не успели поднять. А для Москвы своевременно — там уже тысячи снобиков!
Ему нравилось с ней разговаривать, Воронову. Нежной его жене на разговоры, видимо, времени не хватало.
— Я вот там у потомков классика был: и отец, и сын — художники, более чем современные. Отец открывает мне полотно: женщина, ню — ну, не вполне естественна, более чем импрессионистична, но черт с ней, смотреть можно. «А вот это, — говорит, — сын»: большие листы бумаги, все в пятнах грязных, в зигзагах — «Тоска», «Страх», и так далее. В самом деле, я вам скажу, тоска и страх, чертовщина и чернота, мрак!
— А вы не боитесь, — говорит Ксения, — что на нас теперь обрушится серое?
— А вы не боитесь, что на нас теперь обрушатся все эти выверты без всякого смысла? Это будет пострашнее. Сухие ветки, дорогая Ксения Павловна, надо обрезать.
— Нежизнеспособное само отомрет.
— Примитивное тоже жизнеспособно.
Очень занимали его сухие ветви абстракции и нужно или не нужно их срезать, подправлять и направлять.
У нее же другое на уме было. Так случилось, что она прочла подряд, чуть ли не одновременно (привычка читать по нескольку вещей сразу) статьи о Сэлинджере и Аксенове. И в той, и в другой с сожалением и укором указывалось авторам на инфантильность их героя. И вроде бы можно было так понять, что у Сэлинджера герой инфантилен потому, что западная литература запуталась в трех соснах, не видит для общества выхода; Аксенов же, падкий до западных образцов, попросту перетащил в советскую литературу чуждого ей героя. Так ведь не получалось же! Что-то не ладилось и с рассказом Войновича — об инженере, который, закрывая наряды, не пошел на обычную, привычную туфту — закрыл-таки наряды честно. На фоне всеобщей подтасовки и подворовывания выглядело это, в общем-то, тоже инфантильным: этакий пескарь-идеалист.
А тут еще городское противостояние вокруг одной семьи. Год или два, как прошли обычные советские выборы, на которые спущена была, как полагалось, разнарядка: столько-то рядовых рабочих и крестьян, столько-то инженеров, врачей и писателей, столько-то героев труда и войны, столько-то мужчин, столько-то женщин, столько-то партийных и столько-то беспартийных. И от разнарядки в порядке дальнейшей детализации — так сказать, до особи, — принялась большая группа обкомовских, горкомовских, исполкомовских шестерок сужать круг поисков (так общий чертеж целостного механизма разносится по узлам и деталям с ювелирною проработкой) — пока не обнаружилось, пока не сошлось по всем статьям (чем не Платон с его прообразами, порождающими модели!): быть депутатом работнице швейной фабрики, партийной, нужного возраста и семейного положения. И стала Марья Ивановна (национальность тоже сошлась) депутатом Верховного Совета: по облакам, как героиня Любови Орловой из «Светлого пути», как Сикстинская Мадонна, не переступала, но по ковровым дорожкам во Дворце Съездов конечно же ходила, и в зале среди орденоносных и знатных сидела, поднимала, когда нужно, руку для голосования, и в подвальные распределители в гостинице спускалась, отоваривалась, и в кремлевских буфетах бутерброды с икрой и бульоны из заграничных кубиков ела, и жила в новейшем гостиничном номере на двоих депутатов. И загуляла Мария Ивановна, и не могла остановиться. Натура у нее была подходящая, а возможностей раньше почти не было. Гуляла теперь Мария Ивановна в Москве, гуляла и в Казарске на высоком ответственном уровне. Попробовал муж побить — вызвали в руководящие органы, внушали не бросать тень на советскую власть. А Мария Ивановна загуляла совсем уж по-черному. И убил ее муж, и себя тоже. И разделился Казарск на тех, кто хоронил с подобающими почестями депутата Марию Ивановну, — официальные всё лица, и венки надлежащие, — и тех, что хоронили мужа-убийцу — огромное скопление народа, без официальных речей, но с великим сочувствием.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
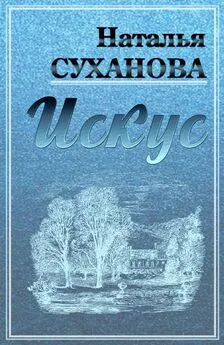






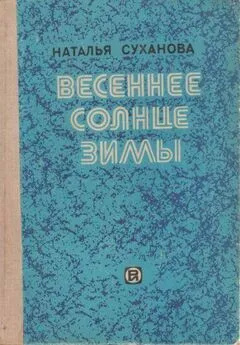
![Наталья Суханова - Вода возьмет [СИ]](/books/1143085/natalya-suhanova-voda-vozmet-si.webp)
![Наталья Суханова - Синяя тень [сборник рассказов : СИ]](/books/1143087/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s.webp)
