Наталья Суханова - Искус
- Название:Искус
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Суханова - Искус краткое содержание
На всем жизненном пути от талантливой студентки до счастливой жены и матери, во всех событиях карьеры и душевных переживаниях героиня не изменяет своему философскому взгляду на жизнь, задается глубокими вопросами, выражает себя в творчестве: поэзии, драматургии, прозе.
«Как упоительно бывало прежде, проснувшись ночью или очнувшись днем от того, что вокруг, — потому что вспыхнула, мелькнула догадка, мысль, слово, — петлять по ее следам и отблескам, преследовать ускользающее, спешить всматриваться, вдумываться, писать, а на другой день пораньше, пока все еще спят… перечитывать, смотреть, осталось ли что-то, не столько в словах, сколько меж них, в сочетании их, в кривой падений и взлетов, в соотношении кусков, масс, лиц, движений, из того, что накануне замерцало, возникло… Это было важнее ее самой, важнее жизни — только Януш был вровень с этим. И вот, ничего не осталось, кроме любви. Воздух в ее жизни был замещен, заменен любовью. Как в сильном свете исчезают не только луна и звезды, исчезает весь окружающий мир — ничего кроме света, так в ней все затмилось, кроме него».
Искус - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но едва, наконец, разгорячилась, разошлась — один за другим телефонные звонки, и секретарь явно им рад (и она бы на его месте обрадовалась). И когда она возвращается к разговору, он уже слушает в пол-уха: он поверил, что она искренна, но он понял и другое, — что больше она никуда не пойдет, ни в горком, ни в обком, ни в органы безопасности, даже сюда больше не придет. И ее фраза о том, что вот, она переложила эту ношу со своей совести на его — уже так, дуновение зефира. Он облегченно благодарит ее за доверие и успокаивает, что время-то уже другое, теперь даже властный человек командовать, как прежде, не может, — коллегиальность торжествует, и прежние люди уже не те.
— И все-таки, все-таки! — восклицает она.
— Да! — говорит он. — Да! (И посетителю в дверях: «Минутку, я сейчас освобожусь»).
И она выпархивает (чем тяжельше и унизительнее, тем легше порхаешь, и мотивчик обязательно какой-нибудь: ля! ля-ля-ля!).
Почему, однако же, и Кокорин, и Федя Замулин, и она сама — все выглядят слегка сумасшедшими? Не потому же ли, почему герои Аксенова и Сэлинджера инфантильны столь похоже?
Но уже это минутное — «почва одна» — отходит от неё вместе с исполненным долгом. На долгие годы отходит, чтобы вернуться в «неведомый срок и в месте, дотоль неизвестном». Аминь.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
— Господи Боже, оно глядит! — воскликнул наш старый друг, взглянув на возлежащего младенца. Но ни смех, ни восклицанье не поколебали чистого, уверенного света взирающих на нас глаз.
В мир приходили цари. Мир был их царством. Они взирали на прохожих из колясок, и засыпали, и просыпались среди людей непринужденно, как меркнет и вновь возрастает свет. Они были личностями с ярко выраженным характером.
Из очереди к паспортистке смотрела я на годовалую девчушку, бродившую меж людей, стульев и столов с материнской косынкой в кулаке. Мать ее маялась у стола — женщина, заполнявшая бланки, ее кучку бумаг отодвигала:
— Что это вы мне столько суете? С ними одними час возись.
— Что же, что много — я заплачу.
— Не надо мне ваших денег! Следующий!
Мягкий рот молодой женщины подрагивал обиженно и неуверенно — она всё не могла понять, имеет ли право настаивать или лучше как следует попросить:
— Как же так, моя же очередь была — что тут и заполнить-то!
Между тем ее девочка, напустив лужу на пол, возила по мокру материной косынкой. Приподнимаясь, смотрела взыскующе на косынку и снова возила по луже. И властно, и радостно было ее лицо.
— Моя же очередь — заполните, пожалуйста, — не то сердито, не то жалобно настаивает женщина.
Девочка уже рядом — хлопает с размаху по столу рукой. Мать отодвигает ее, и через минуту годоваленькая уже занята винтиками на батарее. Кто-то походя гладит её по голове — она не обращает внимания. Оставив винтики на батарее, топает на полусогнутых меж столами, пока не натыкается на такую же, как она — тоже на полусогнутых, но личико худенькое, голубые глазки робки, и всем, и всему улыбаются. Они рассматривают друг друга, потом первая с неуклюжестью пьяного гладит по лицу голубоглазенькую. Та пугается, плачет — первой хоть бы что, она смотрит так, словно сейчас ещё раз погладит. Голубоглазенькая исчезает с её глаз, вознесенная вверх рукою отца. С глаз долой — из сердца вон: бросив мокрую косынку на пол, дитя подходит к матери и вдруг ревёт, без слёз, но требовательно. Мать поднимает её с полу, вынимает из платья полную, как отяжелевший, перезрело коричневатый плод, грудь — сжимая и ущипывая грудь неловкой, властной ручонкой, дитя сосет, роняет руку на стол, на документы. Мать испуганно говорит «нельзя», и тогда, не бросая сосать, ребенок колотит по столу откинутой ручонкой. Мать шлепает по ручонке, отодвигает ее — дочь сосет невозмутимо. Когда она поднимает головенку от груди, в уголке рта — молоко. Не капелька ли молока в углу рта божественного младенца на руках у Сикстинской Мадонны?
Мы были одно, мы были вместе с моим младенцем — вывернувшись друг из друга, чтобы стать друг к другу лицом. Улыбка его и твоя могли не совпадать. Ты улыбаешься — он смотрит как бы рассеянно. Ты наклонилась, занятая обихаживаньем его — он вдруг осветит тебя улыбкой. И каждый возвращался в улыбку другого, как в родной, сияющий дом.
Они назвали сына Иваном. Иван Васильчиков — это было правильное сочетание. Но вначале все это ему не подходило, как вообще не подходит имя младенцу. И «сын», и «сынок» тоже не подходило, хотя Васильчиков — по своей отдаленности, по языковой нечуткости легко называл его так. Можно кому-то сказать: «Это мой сын», вычленяя их взаимное отношение. Простое отношение, которое так много затемняет. Самонадеянная претензия: мой сын. Кто — чей? Мы сами-то — свои?
Но вот, первые, нежного золота волосы были сострижены — их сменили тоже мягкие, но уже русые, волнистые. Сквозь потустороннюю иссиня серую голубизну радужки проступило коричневое, и теперь это были почти оранжевые глаза. Руки — в перетяжечках, сахарные зубки, румяные щечки. И — приветливый. Всем встречным на улице: «Здва-асте!» К любому на руки идет. И как бы далеко, шутливо пугая, ни уносили его прохожие, заливается счастливым смехом: мама, вот она, тоже смеется. Первые прятки. Мама зашла за дерево — «Ку-ку». Ивасик закрывает ладошкой глаза, зажмуривается: «Ку-ку», открывает: ха-ха-ха!
Ванечка, Ивасик, Ивануш, Януш. Теперь-то все имена подходили ему. «Ии-ваан-ка, И-ван-каа», — пела бабушка, провожая его в сон. Иванка. Янушек-камушек. Котёночья пора. Все, каждый — ласкают, не руками, так взглядом.
Его доверие всем и миру безусловно. Это и опасно даже. Только случайно увидела Ксения, как настойчиво пыталась воткнуть ему палку в глаз соседская девочка. «Ширьше, не морьгай!» — кричала она недовольно, и он добросовестно таращился, невольно зажмуриваясь, когда палка приближалась к глазу. «Да ширьше же! Не морьгай!» — и он опять виновато таращил глаза. В другой раз эта же девочка (ровесница, но башибузук, босиком по снегу) так саданула его камнем по лбу, что у него мгновенно над бровью навис фантастический бурдюк, и Ксения, завывая, тащила его в дом, так что уже дед прикрикнул: «Да замолчи же! Ребёнок не плачет, а ты орёшь!».
Всё, что она читала ему, Ивануш перепевал:
— Дело было вечером, делать было нечего, — заводила она его любимое. — Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел.
— На вавочке сидеви дети, — выпевал он (почти сразу освоив «р», он долго не говорил «л»). Гавка — такая птица… Какое «дево»? Что называется «нечево»?
Показывала ли она, что обижена и плачет, — он восторженно подхватывал: «Пвачь, мама, пвачь». И испуг для него был радостью — с восторгом пугался он сам и пугал ее: «Такая бовьсая собака! С ротом! С такими гвазами! С ушами!».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
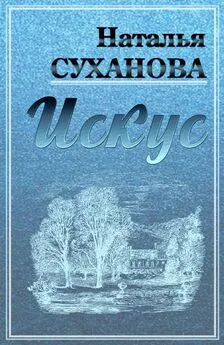






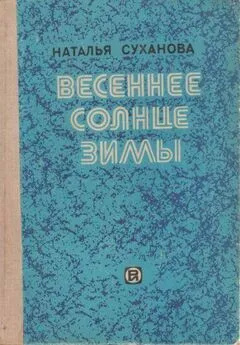
![Наталья Суханова - Вода возьмет [СИ]](/books/1143085/natalya-suhanova-voda-vozmet-si.webp)
![Наталья Суханова - Синяя тень [сборник рассказов : СИ]](/books/1143087/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s.webp)
